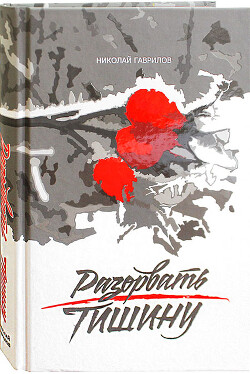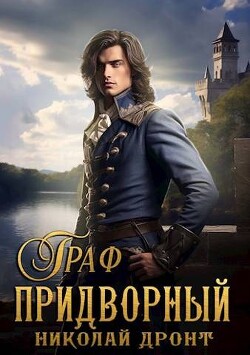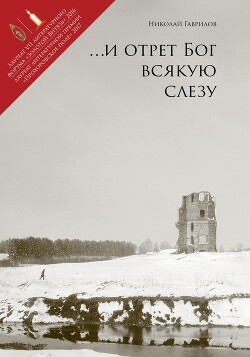Утешение - Гаврилов Николай Петрович
— Как ночь, так начинается, — вздохнул Слава. — Оля, мне к своим надо. Я… — Он хотел сказать, что и так на полдня пропал с ней, но не сказал. — Я тебя могу в гостевую палатку здесь устроить на ночь. Но там условия, сама понимаешь… Предлагаю со мной. Сейчас комендантский час, но мы проедем. На нашем направлении вроде пока тихо. Переночуешь у нас в подвале, там и поговорим… — Он мог добавить: «Только о чем говорить?», но тоже промолчал.
Когда шли к БТР, Ольга увидела, как выглядит ночной бой со стороны. В небо трассерами поднимались очереди крупнокалиберных пулеметов. Огоньки летели не последовательно, а кучками, похожими на огненно-красные рои. Неспешные и завораживающие издалека. Ярко, как люстры, висели в черном небе осветительные мины. Округа мерцала вспышками.
В подвале у Славы черный кофе в кружке, которого не хочется. Ничего не хочется. Бойцы откуда-то притащили в подвал два шикарных мягких кресла. Можно было бы забраться в кресло с ногами, укрыться чьим-нибудь бушлатом, прикрыть глаза и помечтать о том, как встретишь сына, как вернешься домой. Даже не верилось, что он где-то есть — этот дом. Сейчас казалось, что война идет везде, что не бывает тишины. Не затишья между боями, а просто тишины, продолжающейся изо дня в день, — тишины и личного пространства, квартиры, комнаты, чего угодно, где запрешь дверь, и никто тебя не побеспокоит. Тут везде были люди с их взглядами. А без людей страшно.
Можно бы помечтать, если б не действительность. Когда Слава, устроив ее, пошел на выход из подвала, она спросила, сколько посредника будут держать в неведении? Слава на секунду остановился, сморщил лоб и ответил, что, наверное, дня два. Так, на всякий случай. Может, еще завербовать попытаются.
Он убежал, а Ольга осталась в какой-то пустоте. В сознании только бездумно крутились слова «дня два», «два дня». Наверху стреляли, в соседнем помещений свободные от постов солдаты крутили радиоприемник, пытаясь слушать какую-то попсу, другие вповалку спали. Горели дрова в буржуйке с выведенной в окошко подвала трубой.
— Засели в двух пятиэтажках, что в конце улицы. — Вернувшись в подвал, пахнущий порохом Слава подошел к ведру с водой, зачерпнул и жадно выпил полную кружку. — Завтра с утра вертолеты вызовем, если не туман. Выжимаем их потихоньку из города. Месяц понадобился, чтобы ошибки генералов чуть-чуть исправить. Сейчас идем от дома к дому, как по учебнику.
— Знаешь… Один случай из головы не идет, — шевельнулась в кресле Ольга. — Давно о нем забыла, а сейчас почему-то вспомнила. Леше тогда лет пятнадцать было. Трудный возраст — скрытный стал, замкнутый. А я увидела в одном коммерческом магазине платье на Настю. Просто шикарное платье — мечта любой девочки. И так мне захотелось его дочке купить… Прямо представлялось, как она его надевает, как она в нем выглядит, сколько радости у нее будет. Стоило оно каких-то громадных денег — долларов пятьдесят, наверное. Начала я деньги собирать по копеечке и в шкатулку складывать. Как-то полезла, а половины денег нет. Я к Леше: «Брал?» «Нет», — говорит и смотрит на меня удивленным взглядом. Говорю: «Леша, сынок, признайся, кроме тебя некому». А он: «Мама, это не я». Что-то со мной стало… Накричала много обидного и все повторяла: «Лжец, лгун!» А он смотрит на меня, лицо в пятнах и молчит. И глаза такие — чуть ли не презрительные… В общем, деньги я через два дня нашла. Сама же пересчитывала и в суете в другое место сунула. Словно затмение какое-то нашло. Извинилась я, конечно, потом все забылось, а сейчас снова его взгляд вижу. Когда найду — скажу: «Сынок, прости меня, что усомнилась в тебе, что обидела…» И за то, что рос без отца; за то, что в армию отдала, тоже прощения попрошу…
Со Славой было просто. На войне он видел и самое высокое, что есть в человеке, и самое низкое тоже видел. Признайся ему в сокровенном проступке, а он махнет рукой и скажет: «Ну бывает… Да и неважно все это». На войне действительно многое из прошлого оказалось неважным. Но сейчас он молчал.
— Слава. Мне надо в Ачхой-Мартан, — спустя паузу сказала Ольга.
— Да. Надо, — самым простым образом согласился майор.
— Я серьезно.
— И я серьезно. Конечно, тебе надо туда. Нам всем туда надо. Только вот контролируем мы лишь степные районы да кусок Грозного. И всё! Не пробраться нам в Ачхой-Мартан, Оля. Я уже голову сломал. Можно заложников из местных набрать, только не нужны они Руслану — ему родственники нужны. А родственников нет. Не проехать нам туда…
— Слава. Я не о нас говорю. Я одна поеду. — Слова выходили легко, но Ольга старалась не думать, что будет, когда она покинет подвал и пойдет в одиночку по военным дорогам.
— Курить хочется. В день по две пачки выкуриваю. — Слава достал из кармана бушлата сигареты, чиркнул зажигалкой и жадно затянулся. Потом, спустя паузу, спроси: — И что ты им предложишь? Выкуп? Квартиру продашь?
— Да, продам, — коротко и серьезно подтвердила Ольга.
— А как доберешься?
— Мне в первый день один чеченец помог. Вот только адреса его не помню. Просто выйду на дорогу и буду ловить попутку. Война войной, но машины же иногда ездят…
По подвалу ходили тени от огня в печи. В соседнем помещении солдаты поймали по радио какой-то рок. Загудели голоса, звук сделали на полную громкость. Какие они были еще дети… И какие безнадежно взрослые. Им предоставили возможность умирать, разрешили убивать, и война быстро превратила их в законченных циников, которые не верят никому и ничему: ни словам, ни состраданию, ни добру, потому что все это может иметь задний смысл. Начни им рассказывать что-нибудь пафосное — плюнут под ноги. Единственной безоговорочной добродетелью они признавали только самопожертвование, готовность умереть за ближнего. Все остальное в их глазах было половинчатым и ненастоящим.
И еще они уважали достоинство. Чечены его тоже уважали. Ольга помнила рассказ об офицере, которого окружили на одной из улиц Грозного и который, уже будучи дважды раненым, вел бой в одиночку против целого отряда. Перебегал, стрелял, кидал гранаты. «Всё, всё! — кричали ему боевики. — Хватит! Ты доказал, ты мужчина! Выведем тебя к своим с честью!» Он перестал стрелять, позволил им подойти, а когда подошли, взорвал себя вместе с ними последней гранатой.
Когда она попадет в Ачхой-Мартан, не надо валяться в ногах боевиков, умоляя отдать своего сына, надо постараться вести себя достойно, только это они и ценят.
— Ты решила? Отговаривать смысла нет? — спросил Слава.
— Да. Не надо отговаривать.
— Ладно. Понимаю… Утром подвезем до границы нашей зоны ответственности. Прости, не можем там тебе помочь. Знаешь, у тебя случай, когда обидела сына, из головы не выходит, а я потом, возможно, буду себя презирать за то, что тебя одну отпустил… Давай спи. — Слава поднялся на ноги, накинул на плечо автомат и, выходя из помещения, негромко добавил: — А знаешь, многие бы хотели, чтобы у них была такая мать…
Накрапывал дождь. Вчерашний снег остался сереть только в канавах. На пустынной трассе на Ингушетию на выезде из Грозного показались одинокие «Жигули». Машина ехала не спеша, объезжая ямы на плохом асфальте. Ольга подняла руку. За час стояния под дождем рукава пальто промокли насквозь, капюшон тоже промок, капельки дождя стекали по ресницам и мокрым щекам.
Машина остановилась. Было видно, что в салоне только водитель, заднее сиденье заставлено какими-то коробками.
— Тебе куда? — приоткрыв дверь, спросил средних лет усатый чеченец в вязаной шапке с надписью Adidas.
— Мне в Ачхой-Мартан. Подвезете? — шагнула к машине Ольга.
— Садись.
В салоне было холодно, окна запотели. Равномерно стучали дворники. Проехали последние частные дома, впереди виднелась покрытая лужами дорога, дальше раскисшая степь и пелена дождя. «Мой сын жив, и я знаю, где он», — как мантру повторяла в уме Ольга. Эти слова она повторяла всю бессонную ночь в подвале и потом, когда ее вывозили на окраину города. Прощания со Славой не получилось, ему было явно не по себе. Он не верил, что они еще встретятся. Положил в руку деньги, собранные для нее всеми разведчиками. С минуту постоял, глядя в глаза, крепко обнял, уколов щетиной, и уехал на своем БТР с огромными колесами.