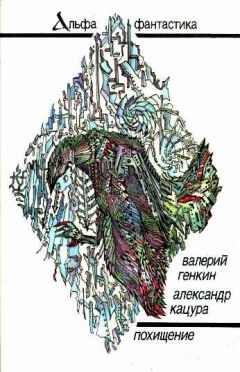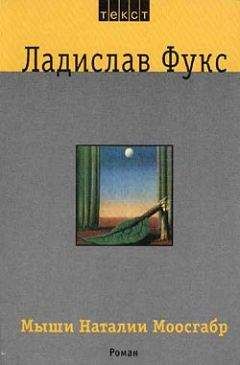Ладислав Мнячко - Смерть зовется Энгельхен
Я уснул в кресле с книгой в руке.
Меня разбудило легкое прикосновение. И не в силах открыть глаза, я потянулся к оружию, но никак не находил его… Я испугался, проснулся окончательно, однако долго не мог сообразить, где нахожусь.
И тут я услышал тихий смех, милый смех…
— Испугался, Володя?..
— Мне что-то снилось… Но как ты попала сюда? Ведь осадное положение…
— У меня пропуск. Ты что такой мрачный? Не рад мне?
— Да нет, я еще просто не проснулся, я очень рад.
— Ну ладно, а то я уж думала, где мне сегодня спать…
Значит, это ее комната! Здесь живет она. Как же я сразу не догадался!
— Но если ты хочешь, — продолжала она серьезно, — я могу уйти. В этом доме места хватит.
— Нет! Нет! Я только удивился, что ты живешь здесь, — ведь я третий раз на этой вилле, а сегодня еще с утра думал, где бы найти тебя. И заснул я мыслью о тебе.
Это было не совсем так — я заснул с мыслью о женщине, которой принадлежит или принадлежала эта комната. И не догадывался, что это Марта.
— Я знала, что ты придешь сегодня. И сказала Василю, чтобы постелил тебе в моей комнате.
Я глядел на нее и не мог наглядеться. На ней была короткая шубка, изящные туфли, белый шелковый шарф — элегантная городская женщина, столичная женщина.
— Ну что ты так смотришь?
— Я тебя такой еще не видел.
— А что во мне такого?
— Да есть кое-что.
— Скажи.
Отчего не сказать?
— Я все удивляюсь, как могло это с нами случиться, с тобой и со мной? Твой мир и мой никогда не могли сблизиться.
— Это все?
— Все.
— Нет, это не все. Я договорю за тебя. Можно? Городская женщина, аморальная, игрушка сытых, женщина из тех, которые вдыхают жизнь, как кокаин, искательница приключений, острых ощущений, способная заработать даже на самом святом, — так?
— Не совсем.
— Не говори. Так и есть. Если ты и не думаешь так, то я думаю.
— Нет, я думал совсем о другом. Я всегда боялся таких женщин, как ты.
— А меня не боишься?
— Теперь — нет.
— Милый мой…
Она присела на подлокотник.
— Мой милый…
Я гладил ее руки, притянул ее к себе, растрепал огненные волосы. К нам вернулась доверчивая тишина. Мы были, как тогда в Броде, одни. Мир со всеми его страданиями уплыл далеко, мы более его не воспринимали.
Она ловко высвободилась.
— Ты ложись, Володя. Мне надо еще кое-что сделать. Сейчас вернусь.
— В доме никого нет.
— А мне никто и не нужен.
Она вышла. Я разделся, отбросил в сторону пижаму, которую мне оставил Василь, накрылся мягким пушистым одеялом и стал ждать Марту. Она вернулась быстро и села на край кровати. Огонь, волны противоречивых чувств совсем захлестнули меня. Радость, сострадание, любовь, счастье — голова кругом пошла от всего этого. Она здесь, со мной — и все остальное не имеет никакого значения, никакого значения.
— Подожди… я сама… ты ведь не привык… лучше свет погаси.
— Не стану. Я хочу смотреть. Разве нельзя?
— Погаси, Володя, погаси, я скажу, когда можно снова зажечь.
Послышался шелест шелка, что-то упало на пол, потом она сказала:
— Можно зажечь.
Она стояла передо мной в роскошном черном белье и нижней юбке с кружевами, сквозь ткань просвечивала белизна кожи. Она стояла совсем рядом — неотразимая, требовательная, полная страсти.
— Это тоже снять?
Нет, это уж слишком.
Меня покоробило от утонченной привычности, с какой она предлагала себя. Она умеет подать себя, знает, что хороша. Да и не так уж хороша, но только мимо такой ни один не пройдет равнодушно. И снова — в который уж раз! — ломал я себе голову: что такой женщине, как она, нужно в тяжелой борьбе, которую мы ведем? Зачем мы ей, зачем ей быть с нами? Или ее уму тоже нужны острые ощущения? Я представляю себе, как немцы валяются у ее ног, как они стараются блеснуть перед ней чинами, вверенными им тайнами, и немцы-то все высокого полета — господа полковники, господа майоры, господа из СС. Но и у нее, по всей видимости, есть воинское звание, и не малое, — ведь был же в ее окружении генерал. Ну, а я для чего ей понадобился?
Она легла рядом со мной. В комнате было тепло, я откинул одеяло, стал смотреть на нее, я даже желал найти в ней какое-нибудь несовершенство, какой-нибудь недостаток — нет, кожа ее была ослепительно белоснежна, даже родинок не было на этой коже; кожа была гладкая, гладкая и белая. Мне казалось, что у меня слишком жесткие руки, что, прикасаясь к ней, я причиняю ей боль, оскверняю совершенную белизну ее кожи. Говорят, только у рыжих женщин такая белая и бархатистая, словно ангорская шерсть, кожа. Она — точно теплый алебастр. И эта женщина — алебастровая Венера…
— Я мылась в трех водах… — сказала она.
В трех водах смывала она с себя прикосновения немцев, а немцы эти, по-видимому, были отцами благопристойных немецких семейств, мужьями, которые здесь, вдали от своих немецких жен, играют в хозяев мира.
Она вымылась в трех водах, и теперь у нее лицо невинной девочки, которая ищет, где бы укрыться, спрятаться от злобных жизненных шквалов. Над такими, как она, время не властно, оно останавливается.
— После войны мы будем вместе, Марта. Я не смогу без тебя.
Это были слова, которых она ждала, в этих словах было все, только они могли помочь, они несли радость, забвение прошлого, они открывали будущее — это была ее победа, ее торжество…
Она целовала меня, громко смеялась… Как будто совсем забыла о действительности, страшной действительности, окружающей нас. Но ко мне вдруг вернулось сознание этой действительности. Я сначала старался защищаться от этих мыслей, отогнать их, но мне не удалось. Дурмана как не бывало, я больше не видел Марту… Я видел перед собой энергичное, самодовольное лицо с большим шрамом и наглой усмешкой; другое лицо, одутловатое, напудренное, в золотом пенсне — лицо наголо обритого человека… Я снова слышал раздирающий, нечеловеческий крик: «Зверь… зверь… меня… как собаку…»
…Бессмысленное лицо простертого на земле генерала — не удивленное, не просящее, ничего не чувствующее, пустое и бессмысленное лицо…
— Здесь Скорцени…
Она вздрогнула. Прерывисто вздохнула, отодвинулась, сжалась, застыла вся.
— Знаю.
Она знает. Она знает, что он здесь. В эту минуту он был здесь, в этой комнате он встал между нами — пусть он не начинал еще свою эсэсовскую экспедицию, но здесь, в этой комнате, уже двое раненых, и ранены не только люди, ранено самое великое, самое святое, самое хрупкое, самое мимолетное из всего, что дано человеку, — счастье. Он — здесь. Вот он лег между нами, точно обоюдоострый тевтонский меч…
Она с головой накрылась одеялом и некоторое время не двигалась. Потом села на кровати, погасила свет.
— Я пойду, Володя.
— Куда ты пойдешь? Останься… только…
Она встала.
— Не уходи, Марта.
— Ладно. Я только надену что-нибудь другое.
Она снова легла, прижалась ко мне.
— Мне холодно, Володя.
Я обнял ее, старался согреть, но ее всю трясло.
— Ты не сердишься, Володя?
— Нет. Хорошо, что ты здесь.
— И мне хорошо, с тобой я чувствую себя увереннее, я будто свободна, и ничего больше нет. Ты согрел меня. Ты можешь очень много дать мне, Володя. Когда ты говоришь, ты находишь верные слова, молчишь, когда говорить не нужно.
Голос ее изменился, вся она изменилась, она лежала рядом со мной спокойная, безгрешная, сестра человеческая. Будто дохнули века, библейски торжественны были ее слова. Она приподнялась и заговорила:
— «В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина.
И сказал ей: кто ты? Она сказала: я Руфь, раба твоя; простри крыло твое на рабу твою, ибо мне холодно…»[28]
— Знаешь ты это, Володя? Знаешь?
Я знал, но не в этом дело. Я похолодел. Я внезапно понял страшную, абсурдную вещь! Невозможно! Никакие человеческие силы не выдержат такого! Нет! Это только игра моих издерганных нервов…
И тут все переменилось. Я мысленно попросил у нее прощения за все, чем обидел ее, хотя бы и в мыслях.
Библиотека в этой комнате… А теперь еще ветхозаветная Книга Руфь…
Идет война, все в огне, свистят пули, по всей земле виселицы, концентрационные лагеря — это страшное время испытаний, все рушится, это время чудовищного напряжения человеческого духа, но не может же человек снести гору… Или может?
— Марта… Марта… скажи мне…
— После войны, Володя… не раньше… Только после войны. — Она не хотела говорить. — Я не хочу теперь, Володя, мне сейчас хорошо, ты точно исцеляешь меня…
— После войны, Марта, если ты захочешь, мы поженимся.
— А ты? Ты захочешь, Володя? После всего, что знаешь?
— Именно поэтому, Марта. Если бы не было этого всего, я бы не мог, наверное.
Она положила мне голову на плечо.