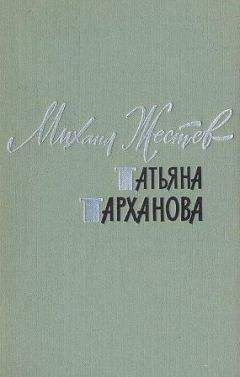Михаил Стельмах - Большая родня
— Дирижирует отец, только камертона не хватает, — наклонился к Лиферу Созоненко, и тот сразу присоединил свой голос к расходившемуся шуму.
— О, снова ахтивист объявился!
— Степан, зацепи богачей за горячее!
— А что он сдал!
— Фунты несчастные.
— То, что полагалось, то и сдал.
— Да до каких пор нам голову будут крутить. Все ограничивают и ограничивают!
— Скоро вам не ограничение, а каюк будет!
— Уже от голода припухаем! — неожиданно выделился голос Ивана Сичкаря.
Загалдели кулаки. Но Кушнир, широко став крепкими ногами, насмешливо сузил глаза.
«Меня не перекричите», — говорила вся его туго сбитая фигура.
Когда галдеж немного стих, Степан Кушнир покосился на толстого, заплывшего жиром Сичкаря и тихо промолвил:
— Только что здесь, товарищи, Иван Сичкарь разговорился, как он от голода припухает. А жена его недавно хвалилась, что врачи у него лишний жир вырезали. Словом, я вижу, нет в семье Сичкаря никакого порядка, никакого. Даже с женой союз не получается.
Сельстрой взорвался хохотом.
— Это у меня несчастная болезнь! — крикнул Сичкарь.
— И воспаление хитрости, — серьезно прибавил Кушнир.
— Ох и влетит сегодня Сичкарю, — от двери прижался к Дмитрию Варивон.
— Что-нибудь узнал? — наклонился к красному, как рожок, уху товарища.
— Узнал. Мы сначала не там с тобой искали. Он хитрее, чем думалось. — Начал осторожно пробираться на сцену, не сводя глаз с Мирошниченко. Свирид Яковлевич поймал заговорщицкий взгляд Варивона, вышел на минутку из-за стола.
— Вы только подумайте, товарищи, до чего может кулаческое нахальство дойти, — продолжает Кушнир. — Они смеют нашим шефам, рабочим нашим, кричать: «Пусть фабричные на земле поработают…»
В углу снова закричали, но Кушнир сразу же обратился в президиум:
— Я думаю, что граждан Заятчука и Денисенко надо оштрафовать за срыв собрания.
— Принимаем к сведению, — отозвался Мирошниченко, и угол затих.
— Так вот, товарищи, как распоясались кулаки. Они мало того, что прячут хлеб, но еще хотят на нашу дружбу с рабочим классом бросить черную тень. Не будет по-вашему, не будет, господа богачи! А хлеб ваш мы возьмем. Из земли вырвем, так как он стране нужен, для укрепления государства нужен, для индустриализации нужен. И мы вырвем жала тем, кто гноит его.
— Вишь, как угрожает, комзлыдень!
— Руки коротки!
— Нет, не коротки, гражданин Данько!
— Да разве я что говорил? Это не я.
— А язык твой.
— А язык может. Он такой.
— Не прикидывайся дурачком. Хлеб все равно найдем.
— Не найдешь, так как нет.
— Хорошо, видно, запрятал.
— Что-то ночью в лесных оврагах шевелилось.
— Какой там черт шевелился! — забеспокоился Данько.
— Так неужели это вы, дядя Яков, чертом стали? А я и не знал. Вот бестолковая голова.
— Ха-ха-ха!
— Иди ты к трем чертям.
— Одного вижу, а где еще двух искать?
— Возле самого Данька стоят. Здесь их хоть пруд пруди.
— Поэтому он в овраге и шевелился!
— Да завезу я свое задание. Только дайте с яровыми управиться.
— Давно бы так.
— Оврагами напугали.
— Кулак псом подбитый, а лисой подшитый!
— Тьху на вас!
— Себе в борщ.
Кушнир спокойно переждал, пока утихомирится собрание, и продолжал.
— Рабочие все для нас строят, производят. Они ни трактора, ни плуги, ни любую продукцию в землю не зарывают. Так что же, их советское село без хлеба оставит? Нет, товарищи, не оставит. Беднота, середняки не провинились перед своим государством. А кулаков надо так тряхнуть, чтобы со всех щелей зерно посыпалось.
— Гляди, чтобы твои кости не посыпались!
— Скоро драбиняк разлетится.
Кушнир переглянулся с Мирошниченко и дальше говорил:
— Тут целая куча кулаков прямо казанскими сиротами прикинулись. Мол, ничего у них нет, ничего не уродило. Я думаю, сейчас следует посмотреть по закромам у этих несчастных сирот.
— Давно пора.
— Уже ходили.
— До каких пор будете обдирать нас? — снова выделился голос Сичкаря.
— Вот и начнем, товарищи, с наибеднейшего, который в насмешку нам пудик тычет. Как раздобрился! С Ивана Сичкаря начнем.
— Ну и начинайте, — процедил сквозь зубы Сичкарь, и мелкие желтые зрачки злостно выделились на серых белках. — Уже весь лес раскопали.
— Еще раз копнем.
— Про меня. Как не ела душа чеснока, так и вонять не будет.
— А от тебя не чесноком, а нечистой силой болотной разит…
Прямо с собрания в лес потянулся большая толпа людей, и в ней никак не мог запрятаться натоптанный жиром Сичкарь.
— Глупо-пусто нарезались, — жаловался маломощному середняку Александру Пидипригоре. — Вот жизнь пошла, чтоб оно пропадом бесследно пошло. Вот нарезались, так нарезались…
— Ну да, ну да, — соглашался Александр Петрович, думая больше всего об одном: как бы не вспомнил Сичкарь о забытом долге.
Просторный над прудом кулаческий двор еще издалека загремел цепями, отозвался воем: собаки Сичкаря больше походили на волков. Хозяин долго возился с хитро придуманной щеколдой, и люди потекли во двор. Над прудом густо повисли голоса.
Свирид Яковлевич уверенно подошел к большому овину, приказал разобрать закром. И не успел исполнитель топором отжать верхнюю дубовую доску, как из двойной стены золотым потоком брызнула пшеница.
— Вишь, догадался чертов богач!
— Кто бы подумал о двойных стенах!
— Вот тебе и нарезались! — вырвалось у Александра Пидипригоры, и он злыми глазами взглянул на побледневшего Сичкаря. — Даже про свой долг забыл человек.
Свирид Яковлевич оглянулся вокруг и громко произнес к Бондарю:
— Придется тебе теперь к Денисенко пойти.
— А чего же, давно пора.
И Денисенко, который следил округлыми глазами за каждым шагом актива, проворно, не на свои годы, подбежал к Мирошниченко. Обветренными устами тихо прошептал:
— Свирид Яковлевич, сам завезу. Я бы давно завез, только же скотина в работе. Осыпаются же яровые. Горят!
Мирошниченко подумал:
— Хорошо… Только сейчас и везите.
— В один миг. Только сынка позову, — и, тряхнув грязным ворохом волос, он обернулся, зачем-то провел рукой по красным клетчатым складкам шеи и выбежал со двора Сичкаря.
— Испугался, — подмигнул Бондарь. — Подумал, что и его тайник обнаружат.
— Надо проследить за ним. — И громче прибавил. — А теперь, Иван Тимофеевич, отправляйся к Пилипенко. Забирай зерно.
Обернувшись, он увидел, как к нему с опаской шагнул сухой, богомольного вида мужчина. Это был Пилипенко. Над его кружочком обстриженной головой, как привешенные лучом, кружились два овода.
XVІІІ
Варивон хитровато прищурился, подмигнул одной рыжей косматой бровью, и Григорий в мыслях уже раскаивается, что обратился к нему.
— Н-да! — слюнявит папиросу. — Сестричка моя двоюродная, значит, с какой стороны ни посмотри, ничего себе девушка. Такую и на печи старосты найдут.
Как он долго тянет слово. И хитрая улыбка выводит Григория из себя.
— Знаю без тебя, — обрывает резко.
— А ты чего наершился? — удивляется Варивон. Он видит, как покраснел Григорий, и расхохотался: — Да ты, видно, девчат еще не прижимал! Га-га-га! Ничего… Эта болезнь со временем пройдет.
— Я ему о серебре, а он о черепках! — вскипает Григорий.
Он сердится на себя, что краска заливает ему лицо, и собирается уже идти. Варивон обрывает смех и подходит ближе к парню.
— Ну, хватит, если не хочешь — не буду… Чего же, познакомить с семьей Югины могу. Только, знаешь, сухая ложка во рту дерет, — многозначительно бьет щелкуном по подбородку. — Так что надо той штуки достать, что с красной головкой и зеленоватым фартучком.
— В кооперацию пойдем?
— Зачем в кооперацию? Парни увидят — в компанию набьются, рюмку твою выпьют и с девушкой, значит, поговорить не дадут. Знаю я их. Зайдем до Федоры Куцей— у нее все, значит, получишь, — и снова хочет рассмеяться. Но вовремя косматыми бровями гасит огоньки в янтарных глазах.
— Ну до Федоры, так до Федоры, — соглашается Григорий, и оба огородом идут к небольшой вдовьей хаты.
Навстречу им встает с завалинки высокая молодая женщина, из пелены сыплется рябая подсолнечная шелуха.
— Добрый день, соколики! — растягиваются в улыбке полные губы.
— Есть ли то, что, кажется, не льется, кажется, не пьется, кажется, нет дна и в рюмке, значит, нет? — скороговоркой барабанит Варивон.
— Для кого-то нет, а для таких орлов поищу, — еще больше растягивает улыбку Федора. И совсем по-девичьи играет глазами. На желтоватом, немного привядшем лице выделяются небольшие яблоки румяных щек.