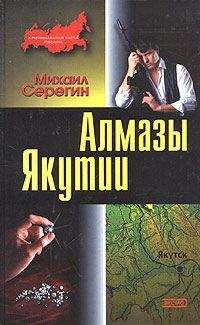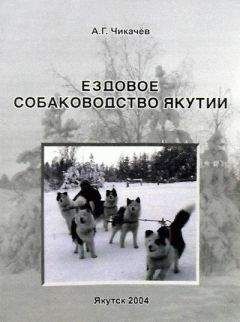Иван Строд - В якутской тайге
Наконец наступила долгожданная ночь, но, как нарочно, лунная. Из находящейся в юрте резервной части отряда пойти за снегом вызвались два красноармейца. С ними добровольно пошел и пленный унтер-офицер, захваченный при нашем подходе к Сасыл-сысы.
— Разрешите мне пойти вместе с красноармейцами за снегом. Сам поглотаю и другим принесу, — попросился он у меня, и я его отпустил.
Все трое захватили с собой по мешку, вышли во двор и шагнули за окоп…
В лунной светлой мути черные тени ползущих людей выделяются отчетливо. Их, конечно, сразу заметили, открыли сильную стрельбу. Двоих ранило, унтер-офицера убило. Раненые вернулись ни с чем. Пошли еще двое. Опять одного ранило, второй принес снега, но немного. Снег высыпали в ведро, поставили к огню в камелек. Натопилось несколько кружек воды, ее разделили между тяжелоранеными.
Припав пересохшими губами к кружке, они отхлебывали воду маленькими глотками, стараясь продлить удовольствие. Выпили, облегченно вздохнули, но через несколько минут снова стали просить воды. Не утоленная, а лишь частично заглушенная жажда вспыхнула с новой силой, стала еще острее.
Что делать? Чтобы обеспечить воду для всего отряда, нужно много снега. Но, пока светит луна, к нему нельзя подступиться. Враг учитывает наше положение и зорко следит за дорогой к снегу. Луна скроется часа за два до рассвета, а за это время много не натаскаешь.
На наше счастье, в санитарной части оказалось несколько простынь. Из них сшили три белых халата. Это немного, но уже хорошо.
Три красноармейца облачились в белые халаты, выползли за окопы. Все же противник их обнаружил, обстрелял. Мы отвечали залпами. Начался настоящий огневой бой. А три человека в халатах, припав к земле, все гребли и гребли снег в мешки, набивали их потуже, оттаскивали во двор, высыпали в кучу и снова отправлялись за снегом. И так до самого утра.
За ночь успели запасти снега столько, что хватило один раз сварить мясо, да еще осталось по две кружки воды на каждого раненого и по одной на здорового.
Теперь мы научились добывать воду. Но все же за нее приходилось расплачиваться кровью и даже жизнью красноармейцев.
С первых же дней осады остро встал вопрос о продовольствии. Как помнит читатель, выступая из Петропавловского, мы смогли взять продуктов только на десять дней. К тому же в пути из-за отсутствия сена нам пришлось хлеб скармливать лошадям и быкам.
Единственным теперь нашим продовольственным ресурсом был убитый скот, которого, по нашему расчету, должно было хватить на месяц. Однако, несмотря на морозы, вскоре мы обнаружили, что мясо стало портиться. Оказывается, причиной этого были внутренности. Нужно было выпотрошить туши животных.
Нашлась случайно завалявшаяся пила. Мерзлые, твердые, как кость, туши лошадей пришлось перепиливать, чтобы выбросить внутренности и предохранить мясо от дальнейшей порчи.
Как только наступали сумерки и темнота скрывала белую полосу, отделявшую нас от пепеляевцев, на середину двора, к трупам животных, подползали два человека с пилой. Работа продвигалась медленно. За ночь успевали перепилить всего три — четыре туши.
Визг пилы слышали белые, догадывались, в чем дело, и начинали стрелять наугад, усиленно засыпая двор пулями. Укрытые тушами бойцы были в сравнительной безопасности и продолжали свое дело.
Распиленное на куски мясо мыть было нечем, воды для этого не хватало. Варили какое есть, часто с кожей: отодрать ее было трудно, да и некогда, голод подгонял. Шерсть палили на огне, опаленное место обтирали полой шинели или тряпкой, после чего мясо опускали в ведро с водой. Больше ничего у нас не было, единственной приправой к мясу являлась соль.
Часам к девяти — десяти вечера пища поспевала. Каждый получал по куску мяса и немного бульона.
— Сегодня суп с харбинской фасолью, — шутил кто-либо из бойцов, обнаружив в своей порции мяса засевшую пулю.
Другие ему вторили:
— А почему фасоль не проварилась, такая твердая?
— Дежурный по кухне, куда смотришь? Фасоль совсем сырая, не упрела.
Это было приятно. Как ни тяжело приходилось, красноармейцы не теряли бодрости, присутствия духа.
Приближалось утро. Луна медленно сползала с небосклона и наконец совсем скрылась за черту гор. Сгустившийся мрак начал уступать место мутно-синему рассвету. На дворе хлопают выстрелы.
В юрте никто не спит. Ждут, что скоро будут раздавать кипяток. И вот со скрипом распахнулась дверь. Но вместо ведра с чаем два красноармейца внесли только что раненного товарища. На пороге задержались, стали смотреть на лицо раненого, ощупывать его.
— Ишь ты! Перевязать не успели, а он и помер, — беспомощно развел руками один.
Второй красноармеец глубоко вздохнул и стал ругать белых.
— Сволочи, мало нашей крови пролили, опять пришли убивать.
Затем подхватил под мышки труп товарища и потащил обратно во двор.
— Пошто им не ходить? — угрюмо продолжил мысль красноармейца лежавший недалеко от дверей боец. — Ремеслом это ихним стало. Думали, что встречать их хлебом-солью и колокольным звоном будут. Надеялись на темноту якутов, вот и приперлись. Но оплошку дали, не так вышло, как они рассчитывали. И выходит у них сейчас точь-в-точь, как в той басне про волка. Забежал это волк в деревню и стал просить мужиков спрятать его от погони. А кто волку поможет — всем он насолил: у того овцу стащил, у другого корову зарезал. Вот Пепеляев на того волка и похож. Просит помочь. А якуты помнят, как в восемнадцатом году тут побывали колчаковцы, знают им цену и на обманные сладкие слова не пойдут.
— Да, якуты теперь совсем другими стали, — вмешался в разговор другой красноармеец. — Помните, когда мы уходили из Петропавловского, они, прощаясь с нами, здорово ругали Пепеляева.
— Насчет населения за примером далеко ходить не надо, — сказал протиравший затвор винтовки командир отделения. — Взять хотя бы хозяина этой юрты. В то утро, когда он уезжал, я на дворе мясо рубил. Якут складывал в сани и увязывал свое имущество. Когда все увязал, подошел ко мне, сунул в руки топор. У меня топоришко плохонький был, но я отказываюсь, не беру, мне неловко как-то: человека и так разорили — пять или шесть коров у него погибло в первом бою. А он всадил свой топор в тушу и отошел к убитым красноармейцам. Снял шапку, с минуту постоял и направился к возам. Я заметил на глазах у него слезы. Ничего не сказал он мне, махнул только рукой, быстро отвязал подводу и уехал.
Командир отделения собрал винтовку, попробовал, как действует затвор, щелкнул, затем продолжал:
— Что и говорить, ошалели белые, на рожон лезут. Все против них, а они видеть этого не хотят, агитируют, зовут к себе, а кто за ними пойдет? Населению белые нужны, как кафтану дыра.
В юрту втащили раненого командира взвода, и разговоры прекратились. Фельдшер Куприянов сделал ему перевязку. Потом подошел ко мне, лег рядом на пол и сообщил неприятную вещь. Оказывается, медикаменты были на исходе, а перевязочный материал уже кончился.
Вся походная аптечка отряда помещалась в санитарных сумках фельдшеров, никаких запасов не было. Того небольшого количества дезинфицирующих и прижигающих средств, которое имелось в отряде, хватило лишь на несколько дней.
Быстро кончились бинты. Пришлось пользоваться старыми, насквозь пропитанными кровью и гноем. Их мыли по нескольку раз, пока они не разваливались. Раны гноились, повязки промокали. Многих раненых необходимо было перевязывать по два раза. А чем? К концу первой недели осады кончились и старые бинты, иод и сулема.
В хозяйственной части отряда возили мануфактуру, предназначенную для выменивания у населения продуктов и фуража. Справился у завхоза, много ли у нас осталось мануфактуры. К счастью, ее нашлось около тысячи аршин. Бинты заменили мануфактурой. Но чем заменить иод и прочие дезинфицирующие средства?
Раны пришлось промывать простой, натопленной из снега водой. С мануфактурой тоже была возня. Вся она оказалась цветной. Прежде чем употребить на повязки, ее надо было кипятить раза два — три, пока не вылиняет.
Из-за отсутствия медикаментов и низкого качества бинтов появились смертельные случаи от заражения крови.
Вообще условия для раненых были совершенно отвратительные. Для них освободили и очистили пристройку к юрте — хотон, помещение маленькое, не удовлетворявшее санитарным требованиям.
После двух дней горячих боев и нескольких дней осады раненых в отряде насчитывалось семьдесят человек, а площадь хотона составляла всего несколько квадратных сажен. В хотоне всегда было темно и душно, а окна открыть нельзя. Небольшой запас жиров пришлось беречь для светильников, которые зажигали только во время перевязки.
Раненые потеряли счет времени и не могли уследить за сменой времени суток. В темноте забудется боец на несколько часов тревожным сном, в темноте же проснется и спрашивает: