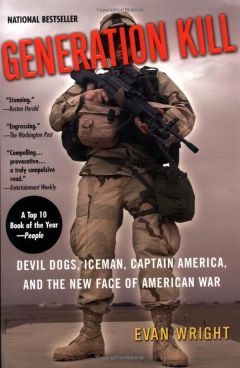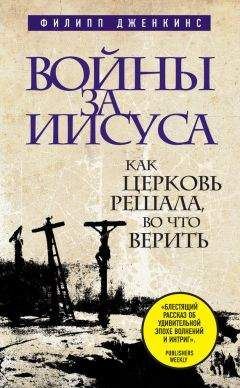Филипп Капуто - Военный слух
Питерсон снова вышел на связь, на этот раз он был вне себя. Я понял это, услышав нотки сдержанного раздражения в его голосе. С точки зрения подчинённого, лучше Питерсона командира роты было не найти. Он почти никогда не повышал голоса. Он спокойным голосом спросил меня, какого чёрта я машу руками под огнём. Я объяснил ему, что подавал сигнал, которому нас научили в Куонтико.
— Ты больше не в Куонтико. Будешь так делать — подстрелят.
Я сообщил ему, что вьетконговец только что сказал мне то же самое, только более выразительно.
Когда перестрелка прекратилась, одно из отделений обыскало ту часть леса, но нашло там лишь несколько гильз. Призраки снова проделали фокус с исчезновением. Ближе к вечеру, обгорев на солнце, смертельно устав, задавая себе вопрос о том, добились мы чего-нибудь или нет, и подозревая, что нет, мы соединились с ротой «D», а затем прилетели вертолёты и доставили нас на базу.
Глава шестая
Уверяю вас, вы увидите, что тогда всё было совсем иное: и военные формальности, и правила, и поведение…
Шекспир «Генрих V» Пер. Е.Н. БируковойНа протяжении нескольких следующих недель стрелковые роты жили в соответствии с установленным распорядком, размеренно, почти как заводские рабочие или конторские клерки. По сути, на войну и обратно мы ходили как на работу. Уходили в буш на день-два, возвращались немного отдохнуть и уходили снова.
Никакой системы во всех этих патрулях и операциях не было. В отсутствие фронта, флангов и тыла мы вели бесформенную войну с бесформенным противником, который мог растаять в воздухе как утренняя дымка в джунглях, чтобы материализоваться заново в каком-нибудь неожиданном месте. Воевали мы как-то беспорядочно, от случая к случаю. Большую части времени ничего не происходило, но если уж что-нибудь случалось, то очень быстро и без предупреждения. Огонь из автоматов или пулемётов вспыхивал так неожиданно, что замирало сердце — так фазан или куропатка вылетает из травы, громко хлопая крыльями. А то вдруг неизвестно откуда прилетали мины, и об их появлении предупреждали только хлопки миномётов.
Серьёзных боёв тогда не было, средние месячные потери батальона не превышали двадцати человек при боевом составе порядка тысячи человек. Однако и этого хватало, чтобы понять то, чего не преподают в учебных лагерях: что такое страх, как выглядит смерть, как она пахнет, что значит убивать, терпеть боль и причинять её другим, что такое терять друзей и как выглядят раны. Мы узнали, в чём суть войны, «и военные формальности, и правила». Мы менялись и были уже не теми неуклюжими мальчишками, какими прибыли во Вьетнам. Мы набрались профессионализма, стали сдержаннее и суровее, и души наши черствели, покрываясь неким эмоциональным бронежилетом, притуплявшим удары и уколы жалости.
Нашу тогдашнюю жизнь описать по порядку невозможно — настолько разрозненными и беспорядочными были те бои. За одним-двумя исключениями о том периоде, т. е. весне 1965 года, у меня сохранились лишь обрывочные воспоминания. То, что запомнилось, крепко врезалось в память, но чётко связать эти моменты воедино я не могу — зацепиться не за что.
* * *Наша рота бредёт по грунтовой дороге мимо католической церкви, построенной давным-давно миссионерами-французами. На фоне азиатского пейзажа её готический стиль выглядит чужеродно. Стены сложены из тёмных камней — похоже, вулканического происхождения. Церковный дворик окружён каменным забором, увешанным, словно знамёнами, бугенвиллией, а сводчатые ворота увенчаны распятием. Мы идём в колонну по два, окруженные облаком пыли, поднятой ботинками. Пыль медленно оседает по обочинам, опускается на дворик, и блестящие листья бугенвиллии тускнеют. День выдался очень жарким, печёт как никогда. Нам сказали, что температура выше ста десяти градусов[37], но цифры ни о чём не говорят. Жестокость этого солнца прибором не измерить. Прямо передо мной шагает пулемётчик, наклонив голову, с пулемётом на плечах, одна рука лежит на стволе, другая на прикладе, и тень его походит на изображение Христа на том кресте, что над церковными воротами. Дорога тянется вдаль мимо гряды невысоких холмов, поросших травой, и затопленных рисовых чеков. Впереди виднеется брошенная деревня, от неё чуть меньше половины пути до нашей цели — заброшенной чайной плантации.
Взвод Леммона идёт в голове колонны, и сквозь пыльную пелену я вижу, как тяжело они шагают, а небо над ними сияет, как раскалённая стальная пластина. И вдруг вспыхивает огонь из стрелкового оружия, пули взметают фонтанчики на затопленных чеках. Колонна останавливается, взвод Леммона развёртывается в цепь и устремляется к холмам. Они шлёпают вперёд по полям, увёртываясь от неожиданно бьющих вверх струй грязи и воды, а затем исчезают в слоновьей траве, покрывающей высоту. Продравшись через траву, они входят в деревню. Два отделения возвращаются на дорогу, третье остаётся на месте, чтобы обыскать хижины. Доносятся крики «Берегись, взрываю!» и приглушённые разрывы гранат, забрасываемых в блиндажи и тоннели. Но противника там нет. Отделение возвращается в колонну, и мы продолжаем наш марш, на жаре и в удушающей пыли.
* * *Мой взвод сидит в дозоре на высоте на краю хребта, что в тысяче ярдов от переднего края обороны роты «С». Сидим мы там уже два дня, но нам больше кажется, что две недели. Днём делать нечего, кроме как сидеть в окопах, обложенных мешками с песком, да глазеть на рисовые чеки и возвышающиеся над ними горы. Ночи складываются из часов нервного бодрствования, прерываемых обрывками неспокойного сна. Мы прислушиваемся: в кустах кто-то ползает, кто там — люди, змеи, животные? Отбиваемся от москитов. Пытаемся что-нибудь разглядеть во тьме, которую время от времени разгоняет свет ракеты, запущенной где-то далеко отсюда.
Третий день перевалил на вторую половину. Мы с сержантом Гордоном сидим на взводном командном пункте. Над окопом мы соорудили навес от солнца, но всё равно жарко. Прорезиненное пончо вздымается и опадает под порывами ветра, пробивающегося сквозь кроны деревьев. Гордон, невысокий профессиональный морпех с розовым лицом, рассуждает о страхе и храбрости. Он что-то говорит о том, что храбрость есть покорение страха, что, в общем-то, не ново. Да я его толком и не слушаю. Я пытаюсь читать сборник стихотворений Киплинга в мягкой обложке, который раскрыт на коленях, но никак не могу сосредоточиться из-за болтовни Гордона и неодолимой усталости, из-за которой могу прочесть не больше нескольких строчек за один приём. Кроме того, я постоянно думаю о девушке — той высокой светловолосой девушке, с которой гулял в Сан-Франциско, когда был там в отпуске пять месяцев и сто лет назад. Я здорово по ней скучаю, но каждый раз, когда я думаю о ней, никак не могу чётко вспомнить её лицо. И она, и Сан-Франциско так далеки от меня, что кажется, будто их и на свете нет. С носа на Киплинга скатывается капля пота, пачкая страницу. А Гордон всё болтает и болтает.
Беру в руки бинокль и осматриваю долину, простирающуюся под нами. Стёкла отсырели, и я вижу лишь размытую зелень в пятнах света. Я словно сижу в маске на дне зелёной реки. Протираю стёкла и лицо, но через несколько секунд пот снова заливает глаза. Я заново протираю стёкла и направляю бинокль на безлюдную долину. За последние двое суток я проделывал это уже десятки раз. Такова моя задача:
«Держать под наблюдением долину реки Сонгтуйлоан и сообщать обо всех замеченных передвижениях или действиях противника». Разумеется, никаких передвижений или действий противника не наблюдается. А вижу я лишь опалённые солнцем поля, конусовидную высоту в полумиле отсюда — это высота 324, да частокол Аннамской горной гряды. Интересно, что зелёный цвет, который в стихах и песнях неизменно ассоциируется с юностью и надеждой, может настолько угнетать в отсутствие других цветов. Повсюду этот зелёный цвет. От его присутствия уже невозможно избавиться. Куда ни глянь — сплошь зелёные рисовые чеки, зелёные холмы, зелёные горы, зелёное обмундирование. Светло-зелёный цвет, просто зелёный, тёмно-зелёный, оливково-зелёный[38]. Навязчиво-монотонный, как голос Гордона.
Я прерываю его, зачитывая строфу, бросившуюся в глаза:
«А в итоге всего — камень, имя его, и другим навсегда урок: «Здесь нашёл свой конец чужеземец-глупец, он хотел покорить Восток»».
Гордон не замечает иронии и пускается в рассуждения о своём любимом стихотворении — балладе «Налей-ка мне виски, ржаного налей, ты виски налей или лучше убей».
А я думаю про себя: «Если ты, Гордон, не заткнёшься — тебя точно убьют, и даже скорей, чем думаешь». Мыслей своих я не озвучиваю. Я понимаю, что достиг второй стадии «cafard», на которой ненавидишь всё и вся вокруг. Чтобы отделаться от Гордона, иду проверять линию обороны. У всех морпехов настроение сродни моему: «Всё достало, доконало, домой хочу». Предплечья у них бронзовые от загара, но из-за жары лица землистые, а в глазах — та самая пустота, именуемая «тысячеярдовым взором».