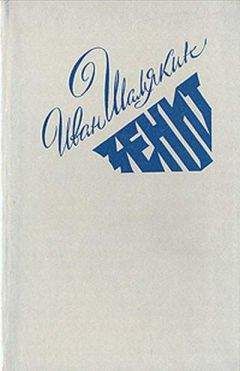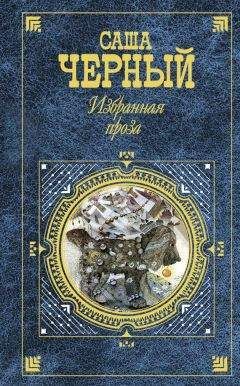Иван Шамякин - Торговка и поэт
Нет, не множество немцев на улицах Минска его ошеломило. Их спокойствие, уверенность, устроенность. И то, что наши люди служат им. Он, безусловно, не думал, что жизнь остановится, — чтобы существовать, люди вынуждены работать на оккупантов. Работающих на заводах и фабриках он не считал врагами. Но оказалось — есть обслуживающие господ офицеров. Он добрался до вокзала, где, как всегда в таких местах, да еще в военное время, было особенно людно. И там увидел категорию служителей, о которых только в книгах читал, — мальчиков-носильщиков и чистильщиков обуви. Их было много. Некоторые исполняли не только роли носильщиков, но и возчиков. На санках-самотяжках, на тачках возили вещи офицеров и солдат в любой конец города. Некоторые уже довольно бойко предлагали свои услуги по-немецки.
Увидел он и молодых женщин, поведение которых, заигрывание с офицерами говорило о их занятии. Все это страшно поразило и причинило боль не меньшую, чем предательство некоторых бывших красноармейцев в лагере военнопленных. Ведь эти ребята вчерашние советские школьники. И девчата, о которых он еще недавно сочинял возвышенно-романтические стихи. Его юность, студенчество совпало с годами всеобщей подозрительности, он верил, что вокруг немало врагов, агентов буржуазии и немецкого фашизма. Но он никогда не мог бы представить в те годы, что прислугой у фашистов станет кто-нибудь из его школьных или институтских приятелей. Какие у него были мечты! Да и у всех его друзей! Любой из них умер бы от одной мысли, что придется везти вещи чужого офицера, врага, оккупанта… Откуда же взялись эти? Не силой же их пригнали сюда? Он попытался поговорить с мальчишками. Но, заинтересованные вначале вниманием к ним, услышав его вопросы, они враждебно настораживались и отходили. Рассудив здраво, детям он простил, даже пожалел их. Но женщинам оправдания не было. Женщин он карал бы самой суровой карой.
На другой день он стоял на площади Свободы перед полицейской управой. Ему хотелось посмотреть в лицо тем, кто пошел служить в оккупационные учреждения, посмотреть в глаза открытых, явных предателей. Что выражают их лица? Они заканчивали работу на исходе короткого зимнего дня, когда смеркалось. Но день был ясный, морозное небо полыхало ярким закатом, и он увидел их и убедился: не было в их глазах ни страха, ни раскаяния. Они выходили группами, мужчины и женщины, и весело переговаривались, смеялись. Правда, расходясь в разные стороны, люди эти спешили, ускоряли шаги. Боялись. Чего? Темноты? Приближения комендантского часа? Но наверняка у каждого из них есть ночной пропуск.
Отдельно из управы выходили немцы. Офицеры.
«Инструкторы». — подумал Олесь.
Немцы так не спешили. Они чувствовали себя хозяевами, пока не стемнело.
Потом Олесь даже не мог вспомнить, почему, с каким первоначальным намерением, он пошел за этим немцем. Кажется, без всякой цели, из чистого любопытства: куда немец пойдет? Где он живет? А может, потому, что немец как никто другой залюбовался небом. Он вышел из двери один и несколько минут стоял на крыльце; потом остановился на площади и посмотрел назад, где полыхали самые яркие краски заката.
Возможно, Олеся оскорбило, что фашисту может быть свойственно что-то поэтическое. Не имеет он права любоваться нашим небом!
Немец был молодой, высокий, красивый, типичный ариец, в мышастой шинели с меховым воротником, из-под которого были видны погоны обер-лейтенанта, в высокой фуражке с кокардой, с толстым желтым портфелем в руке.
А может, Олесь пошел следом потому, что, пройдя мимо, немец не обратил на него никакого внимания, не глянул даже. Почему? Из презрения? Задумался? Из уверенности, что ничто тут, в чужом городе, ему не угрожает? Или посчитал Олеся служащим управы?
Офицер пошел на Интернациональную, а потом по крутому спуску на Пролетарскую. Деревянный тротуар обмерз, был скользким, и офицер сошел с него, шагал между тротуаром и мостовой, где снег не притоптали и не было так скользко.
Олесь шел по тротуару. Замерзшие доски скрипели, пищали, пели на все лады. Но и на это многоголосие немец ни разу не обернулся. Для него было естественно, что в городе кто-то шел сзади, кто-то впереди. На Пролетарской народу было больше, и асфальтовые тротуары почищены дворниками. Перейдя мост через Свислочь, немец начал подниматься на Замковую гору.
Олесь только тут, на подъеме, почувствовал, как быстро тот идет; у него, обессиленного болезнью, началась одышка, застучало в висках.
Смеркалось, погасло пламя заката, в небе загорелись звезды.
Свернув на пустыре около темной коробки оперного театра на протоптанную тропинку, офицер впервые оглянулся и, кажется, встревожился, потому что остановился, как бы ожидая его, Олеся.
Олесь сообразил, что не нужно останавливаться, и тем же ровным шагом приблизился, почтительно отступил в снег, обходя офицера, и поздоровался:
— Гутен абенд, герр офицер.
Немец ответил:
— Гутен абенд, — и добавил еще что-то, Олесь сделал вид, что понял, пробормотал:
— Я, я, нах хауз. Фрау… Жена ждет…
— О, жена! — сказал немец и добавил что-то по-немецки, — наверное, пошутил, потому что сам засмеялся.
На глаза попалась менее торная боковая тропинка, которая вела к сгоревшим домам над Свислочью, и Олесь повернул туда, быстро шагая по склону вниз.
На другой день Олесь ждал около управы конца рабочего дня. За сутки погода переменилась: мороз уменьшился, небо заволокло тучами, порошил мелкий снег, и потому быстро темнело. Более торопливо расходились работники управы, меньше шутили и смеялись. Неспокойно все-таки у предателей на душе, не чувствуют они себя хозяевами в городе, подумал Олесь. А вот он, мститель, к своему собственному удивлению, был совершенно спокоен. Гулял по площади, засунув руки в карманы длинного и широкого Адасевого пальто. Несколько дней назад он надевал это пальто с чувством вины перед человеком, который где-то воюет по-настоящему, думал с презрением о себе: пригрелся около чужой жены, обул и надел чужое… Теперь не думалось об этом; пальто удобное, легкое, теплое, с глубокими карманами, новое, из хорошего драпа, оно придает вид обеспеченного человека. А кто сейчас обеспечен? Тот, кто работает у немцев! Еще дома Олесь подумал, что вещи Адася на этот раз послужат святому делу. Они необходимы, как и пистолет советского почтовика, погибшего от фашистской бомбы.
Гуляя под окнами полицейского управления, Олесь не задумывался, что может навлечь на себя подозрение, задержавшись на площади после того, как разошлись служащие. Встревожило, что офицер долго не выходит, дольше, чем вчера. Расчеты его строились на немецкой пунктуальности. Только немец мог идти со службы так, как шел вчера тот. Наверное, семью сюда привез, занял лучшую квартиру, обосновался навсегда, потому и любуется небом над городом.
Офицер вышел не один, вместе с ним было еще двое — военный в форме СС и гражданский. Олесь испугался: неужели все трое пойдут вместе? Нет, эсэсовец и гражданский распрощались, пошли в другую сторону — на Немигу. А обер остался на крыльце и, натягивая перчатки, несколько минут любовался, как кружатся снежинки, опускаясь на деревья в сквере.
Олесь только теперь заметил, что деревья, запорошенные снегом, действительно красивы. И его снова покоробило, что такой красотой любуется фашист, оккупант, Это вывело из странного, какого-то бездумно-застывшего спокойствия. Он вдруг почувствовал, что спокойствие это существует как бы независимо от него, а сам он, тело его, мозг, сердце до крайности напряжены в ожидании того, к чему он шел через многие муки, к чему готовился не только последние сутки… Но к черту все рассуждения, всяческое копание в собственных ощущениях! От этого начинается страх, неуверенность, разлад между умом и волей.
Осталось десять, максимум пятнадцать минут до решающего, самого ответственного экзамена. Обер ходит быстро — длинноногий, спортсмен, наверное. Но что это? Почему он пошел не в ту сторону? По Ленинской пошел, на Советскую. А тут, в центре, в домах, уцелевших от бомбежки и пожаров, работают магазины, кафе, и на улицах многолюдно; гуляют, конечно, в основном те, кто не боится приближения комендантского часа. Если обер зайдет в офицерское кафе или кино, все сорвется.
Олесь не мог примириться с мыслью, что можно прожить еще хотя бы час, два, а тем более ночь, не осуществив своего намерения. У него же все готово и все рассчитано до последнего шага. И враг, конкретный враг, уничтожить которого он получил приказ от самого высшего командования — своей совести, — вот он, в нескольких шагах от него идет с высоко поднятой головой, уверенный в своей безнаказанности. Невозможно отложить кару даже на сутки. Казалось, от того, когда будет заслуженно наказан именно этот пришелец, зависит очень многое не только в судьбе его, сержанта Гопонюка, но и в судьбе армии, народа.