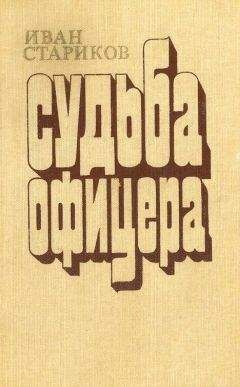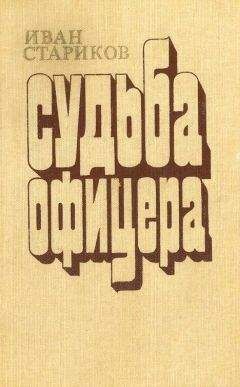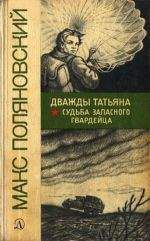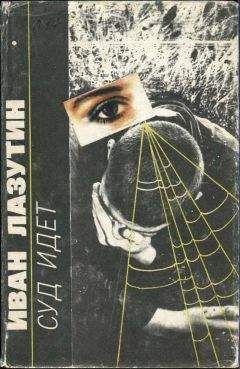Иван Стариков - Судьба офицера. Книга 1 - Ярость
— Осколок бомбы пробил. Отскочил от головы Захарки, попал в мой фляга! Йок фляга.
Смеялись все. Райков схватился за живот:
— Ой, не могу! Нет моих сил! Захар, Захар! Дай хоть потрогать твою бронированную брянскую голову.
С наблюдательного поста донеслось:
— Немцы! Немцы идут!
И сразу установилась в окопе мертвая тишина. Райков, еще не видя, где немцы, скомандовал:
— Приготовиться, братцы!
И лишь после этого припал к краю бруствера, чтобы лучше сориентироваться. Оленич находился в своем окопе, и ему очень хорошо было видно, как солдаты противника уже не плотными шеренгами, а рассредоточенно кинулись от сада ускоренным шагом, некоторые бегом — к реке, начав строчить из автоматов еще издали.
Но и на этот раз врагу не удалось не то что переправиться на правый берег, но даже войти в холодную воду, которая так вожделенно поблескивала, переливаясь и струясь через камни и валуны. Солдаты снова залегли за камнями, даже прятались за кусты. И чтобы приглушить немного огонь со стороны обороняющихся и дать возможность отойти в сад пехоте, по переднему краю ударили немецкие минометы. Мины ложились достаточно близко, заставляя пригибаться в окопе. Послышались призывы о помощи, крики и стоны раненых.
«Надо посмотреть, что где делается», — подумал Андрей и поднялся, отряхнулся, привел себя в надлежащий вид.
— Старшина Костров!
— Здесь!
— Ухожу к Гвозденко и Туру. Остаетесь за меня. Усилить наблюдение за противником. Держаться до последнего патрона.
— А потом?
Оленич увидел, как у старшины лукаво сверкнули глаза, сказал:
— И потом держаться!
Как только минометный огонь приутих, Оленич кинулся на левый фланг. Он знал, что там опытный командир-огневик Полухин, но все же хотелось самому посмотреть на своих ребят, увидеть их во время боя, может быть, поддержать, чем-то помочь. Так же, как и на правом фланге, где взял на себя ответственность Истомин.
До отделения Гвозденко оставалось с полсотни метров, когда по позициям батальона Полухина ударили пушки: они стреляли из-за холмов. Снаряды ложились на семьдесят — сто метров сзади передовой и вреда обороне нанести не могли, но под огнем оказались тылы — санпункт, пункт связи, командный пункт. В памяти возникло Женино освещенное луной лицо. А днем — ни после первой, ни после второй вражеской атаки — он ее не видел. Как она держится? Ведь нервничала перед боем.
Снаряды ложились все ближе к линии окопов. И Оленич уже бежал почти в зоне огня. Все чаще над ним пролетали со свистом осколки и его осыпало пылью, поднятой взрывом. Однажды он услышал угрожающий свист и упал ничком на дно хода сообщения. Снаряд разорвался в нескольких шагах впереди на самом бруствере. Взрыв оглушил, на голову посыпался песок, полетели ветви.
Рядом послышался стон. Оленич кинулся на голос: по песку полз раненый боец, оставляя за собой кровавый след.
— Погоди, солдат, погоди, — прошептал Андрей, склоняясь над раненым. — Сейчас я тебя перевяжу.
— Ноги… Ноги мои…
Красноармеец был ранен в обе ноги. Оленич кое-как перетянул ему ноги выше ран. Боец опять было со стоном, приговаривая «ноги, мои ноги», пополз, хватая руками песок.
— Подожди… Сейчас тебя отнесут в медпункт, перевяжут как следует… Полежи минутку.
Оленич пробежал еще несколько метров, наткнулся на бойцов и приказал, чтобы доложили командиру отделения — рядом лежит раненный в обе ноги боец, нужно его доставить в медпункт.
— Исполним, товарищ командир.
Оленич двинулся дальше и через минуту свалился в окоп к пулеметчикам. Ребята подхватили его на руки, послышался обеспокоенный голос Гвозденко:
— Вы не ранены, товарищ командир?
— Нет. Со мною все в порядке. Что у вас?
— Передышка! — воскликнул Гвозденко.
— Не думаю, — возразил Оленич.
Так оно и вышло: не прошло и получаса, как на вершинах возвышенностей показались цепи фашистских солдат. Спустились в лощину и двинулись к реке, но продвигались они медленно и наконец остановились. И тут Гвозденко увидел, что из сада стремительно выбежали сотни две солдат, в основном автоматчики. Они на ходу поливали огнем передний край обороны настолько плотно и метко, что не давали возможности поднять голову. Не успели стрелки батальона и пулеметчики опомниться, как фрицы оказались у самой реки.
— Приготовить гранаты! — скомандовал Гвозденко и сам достал из сумки две гранаты-лимонки.
— А противник явно отдает предпочтение вашему участку огневой позиции, — отметил Оленич.
— Еще бы! Мы ведь взяли раненого автоматчика во время атаки.
— Живой?
— Живой. Где-то на перевязочном пункте.
— Почему не доложили?
— Тут был комиссар Дорош.
— Все равно я должен был знать! Взяли его вы, пулеметчики?
— Да.
— Вот видишь, а я не знал.
— Виноват, товарищ старший лейтенант! Не повторится. Была спешка. Только мы его вытащили, как майор Полухин прислал двух бойцов и пленного забрали. Майор Дорош сразу же пошел следом: ему необходимо связаться со штабом и отправить пленного.
— Майор Полухин в боевых порядках?
— Он постоянно здесь.
— Я к нему.
— Товарищ старший лейтенант, подождали бы, пока отобьем эту атаку. Видите, как они упрямо лезут к нам, такой настырности у них сегодня еще не было.
— Они считали, что тут просто пройти. Деритесь, Гвозденко, но берегите людей.
— Говорят, что бронепоезд где-то недалеко, ведет бой и пробивается сюда.
— Ты об этом не думай. И бойцам так говори: не надо думать, что бой кончится, когда пройдет бронепоезд.
— Так точно, товарищ командир! Будем драться, не ожидая подмоги.
Ничто так не воодушевляло Оленича, так не поднимало его боевой дух и настроение, как мужество бойцов, ему подчиненных. Если слышал не наигранный, а искренний бодрый голос солдата, если видел, как, не раздумывая, боец кидается в атаку, гордость и радость переполняли душу. Андрей и сам бросался в атаку — не раздумывая и самозабвенно. Тогда он не боялся поднимать солдат в наступление, и не было у него ни сомнений, ни страха идти впереди взвода или роты.
Было ему приятно услышать от майора Полухина:
— Твои пулеметчики — настоящие. А Гвозденко я бы мог доверить не только взвод — роту. Надежный парень! — Вдруг Полухин спохватился: — Извини, забыл: поздравляю с повышением в звании. Истомин о тебе высокого мнения. Ты что, для этого сухаря вроде сахарного сиропа?
В последней реплике Оленич почувствовал не простую иронию, а что-то вроде насмешки.
— Вы что же, товарищ майор, офицеров делите на сиропы и уксусы?
— Хо-хо-хо! Уже и оскорбился! Какой гусар, понимаешь!
— Не оскорбился. Но таких шуток не воспринимаю.
— Ну, что же, как говорится, хвалю молодца за обычай. Но мне интересно было, что Истомин со мною говорил так, будто хотел тебе показать, какой он жесткий офицер. Он что, фанатик? Так сказать, военный до мозга костей?
— Да нет… Просто он знает, какой будет бой… Ответственность.
Полухин долго молчал, потом вдруг широким жестом кинул шинель на дно окопа, словно расстилая ее перед молодым офицером.
— Давай немного посидим, старший лейтенант. Ты не думай обо мне — как о неорганизованном интеллигенте. Хочешь наперсточек шнапсу? Ну и не нужно! Препаскудное пойло, скажу тебе! Хотя я иногда употребляю. Нет, нет! Я не пьющий. Так, для очистки своего озлобившегося нутра. Да и то свою, родную, русскую. А сейчас вот нет своей, понимаешь. Нет ни жратвы, ни питья. И вообще, мне кажется, уж ничего нет. И мы бьемся лишь потому, что еще живы. Что? Сказал что-то крамольное? Такое нужно держать при себе. А еще лучше — выбросить его начисто. Но я ведь не зря выбрал тебя для исповеди, И благодарен судьбе, что в сию минуту она мне послала тебя — не только образованного, не только честного, но и интеллигентного. Интеллигентность, брат, высшая оценка человека! Она всегда была высшей и еще будет высшей. И ты меня вспомнишь…
— На войне, естественно, у нас у всех возникает потребность высказаться — накапливается слишком много всяческих грузов. Они мешают воевать.
Полухин оказался не меньшей загадкой, чем Истомин, даже, может быть, гораздо большей, сложнее, чем кажется на первый взгляд. А главное, и это стало для Андрея настоящим открытием, майор казался родственной ему душой. Что-то созвучное раздумьям Оленича было в рассуждениях и откровениях Полухина, но было и такое, чего Оленич не принимал и не мог принять в силу противоположных взглядов. Майор внимательно смотрел на Андрея, потом спросил:
— Скажи, старший лейтенант, сколько тебе? Есть уже двадцать?
— Двадцать первый.
— Видишь, как ты молод. Я не хочу сказать, что ты многого не понимаешь. Просто ты еще не думал над этим. Вот если еще не исполнилось ни одно твое желание, ты не будешь в такой мере разочарован, как я: у тебя впереди все. А мне за сорок. И что? Кажется, можно бы подвести какой-то итог жизни, а жизни-то и нет. Ее просто еще не было! Ты вот сказал, у человека на войне накапливается всяких там грузов… А до войны, ты думаешь, они не накапливались? Ошибаешься! Еще как накапливался горький груз разочарований, сомнений, внутренних борений…