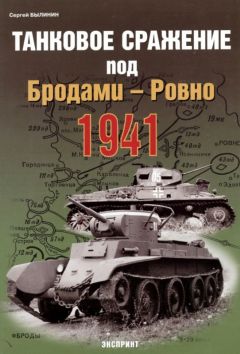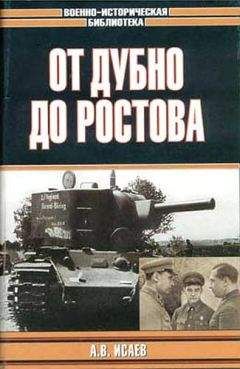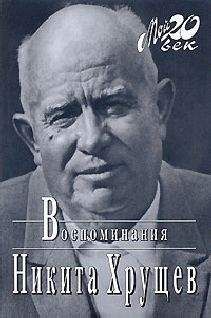Николай Попель - Танки повернули на запад
— А что вам еще делать, как не продукт переводить! Во втором эшелоне, как у Христа за пазухой, — рассуждал генерал. — Вчера на сон грядущий дали мы немцам, сегодня тоже подъемчик им неплохой устроили. Сотен семь танков, считай, как не бывало. И сейчас артиллерия работает — снаряды не экономим…
На столе появились куски холодной баранины, яичница, запотевший графинчик, тонко нарезанный белый хлеб — щедрые дары чистяковского гостеприимства.
— Я бы на месте Николая Кирилловича сейчас соображал насчет того, как бы еще один дом отдыха открыть, — посмеивался командующий.
И неожиданно смолк, насторожился. Размеренный гул нарушили близкие разрывы. На рысях промчалась артиллерийская упряжка. Над яблонями, в которых завтракал командарм, медленно расплывалось пристрелочное облачко шрапнели.
Тревога вдруг овладела людьми.
Широкое улыбчивое лицо генерала стало холодным, твердым. Глубокие морщины, выглядевшие только что добрыми и мягкими, обрели жесткость. Он уже не замечал ни стола с едой, ни нас.
Помощник начальника штаба докладывал торопливо и неуверенно. Да, противник, видимо, прорвался большими силами. Какими — еще не известно. Из дивизий противоречивые сведения. Доносят о сотнях танков и самолетов…
Мы с Михаилом Ефимовичем понимающе переглянулись. Нужно было немедля ехать в свои войска.
— Да, с домом отдыха, пожалуй, придется повременить, — бросил, прощаясь, Чистяков.
Огневые позиции артиллерии оказались ближе, чем можно было предположить. Пушки стояли в пшенице, скрытые от постороннего взгляда ее невысокой стеной.
Бинокль ни к чему. Немецкие танки видны простым глазом. Они текут прерывистой широкой лентой. Края ее стремятся поглотить все новую и новую площадь. Левый фланг колонны подмял густой орешник, передовые машины словно в нерешительности остановились на открытом месте. Черные разрывы наползли на них, скрутили тугими жгутами дыма.
Стволы иптаповских пушек распластались над землей. Пламя едва не касается склонившихся колосьев.
Полк бьется менее часа, а треть орудий уже выведена из строя. Поредели расчеты. Потери не столько от танков, сколько от авиации.
Небо в безраздельной власти немецких пикирующих бомбардировщиков. Они то летают друг за другом по замкнутому кольцу, то вытягиваются вереницей. Потом снова вертятся в хороводе, поочередно сбрасывая бомбы. Десятки таких хороводов кружат в небе. И снизу к ним вздымаются столбы земли и пламени, летят куски лафетов, бревна…
Незадолго до нас командир артполка майор Котенко пытался проскочить на огневые на машине. Остов этой машины догорает теперь на поле. Неизвестно как уцелевший майор все же добрался до орудий и сейчас работает в расчете. Никого не осталось на наблюдательных пунктах — да и что там делать, если полк ведет бой прямой наводкой. Многие командиры батарей и взводов тоже действуют за выбывших из строя наводчиков и заряжающих.
Дым, пыль, гарь… Навстречу потоку иптаповского огня и металла устремляется поток огня и металла, выброшенного немецкими танками и немецкой артиллерией. Гудящее пламя и свистящие осколки безбрежным морем заливают все вокруг. Человек в нем кажется слабым и недолговечным, как мотылек у свечи…
Мы лежим в глубокой воронке. Вывороченная земля уже высохла, стала серой. При близких взрывах комки ее скатываются к нам.
По выжженной полосе ползет кто-то в нашу сторону. Ползет медленно, замирая, прячась в окопы. Когда до ползущего остается метров семьдесят. Балыков, не спрашивая моего разрешения, молча выскакивает из нашей воронки и короткими перебежками устремляется вперед. Он что-то втолковывает ползущему офицеру, но тот не соглашается, отрицательно качает головой. Тогда Балыков хватает офицера, бросает себе на плечо и опрометью мчится назад.
Задыхаясь, он вместе с ношей плюхается в воронку. Гимнастерка, брюки, сапоги у обоих в крови. У лейтенанта рана в бедре и перебито запястье левой руки. Здоровой рукой он держит раненую и нежно, как ребенка, прижимает к груди, по которой течет и течет кровь. Она смешивается с кровью, сочащейся из порванных на боку брюк. Земля вокруг лейтенанта темнеет.
Пока делают перевязку, лейтенант, поминутно теряя нить, рассказывает о бое. Он — адъютант командира полка майора Котенко. После того как «виллис» был разбит, а раненный в голову шофер умер, он вместе с командиром пробрался на огневые. Здесь стоял взвод лейтенанта Юрпалова. А Юрпалов этот был прежде адъютантом у Котенко, но отпросился в строй. Майор его любит, как сына. Но все-таки отпустил. Сегодня у Юрпалова день рождения.
— Сколько ему? — спросил я.
— Двадцать лет, ровно двадцать… Контужен он. Глухой как пробка. Там все — кто контужен, кто ранен… Майор мне наказал — хоть живой, хоть мертвый, доберись до тыла… Людей и машины вызвать. Раненых больно много.
Вызывать сюда санитарные или грузовые машины — безумие. Вряд ли хоть одна дойдет до огневой. А если и дойдет, то уж наверняка не вернется.
Я посылаю Кучина с запиской к Бурде. Только под защитой танков можно попытаться вынести раненых.
Накал боя нарастает. Уже не поймешь, отчего жара — от равнодушно палящего солнца или от огня, слизывающего пшеницу.
Мы отдали всю воду раненому адъютанту. Он лежал на дне воронки, бессильно закрыв глаза, и тихо стонал.
Вернулся Кучин с несколькими танками от Бурды. Это помогло эвакуировать раненых.
Над воронкой теперь роились пули. Четко тараторил неподалеку крупнокалиберный пулемет. Ему наперебой поддакивали автоматы.
Немецкая пехота обтекала огневые позиции, просачивалась между батареями. Гитлеровцы жали. Жали с маниакальной настойчивостью. Они не думали о цене. Только бы прорвать русскую оборону, овладеть дорогой на Обоянь.
Пехота первого эшелона смята, артиллерийские полки, в том числе и два из нашей армии, раздавлены. Остатки стрелковых частей откатываются на север. На огневых позициях остались лишь изуродованные пушки да недвижные тела.
С минуты на минуту вал немецкого наступления должен обрушиться на бригаду Бурды, оседлавшую дорогу Белгород — Обоянь.
Немецкие танки показались уж на гребне высотки. Приземистые, широкогусеничные (в бинокль отлично видны их контуры), с коротких остановок они открыли огонь. Потом, подняв стволы, стали быстро спускаться. А на гребне появлялись все новые и новые. Не только «тигры» и «пантеры», но и хорошо нам знакомые Т-III и Т-IV.
Пожалуй, ни я, ни кто другой из наших командиров не видали зараз такого количества вражеских танков. Генерал-полковник Готт, командовавший 4-й танковой армией гитлеровцев, ставил на кон все. Против каждой нашей роты в 10 танков действовало 30–40 немецких. Готт отлично понимал, что если он прорвется к Курску, любые потери будут оправданы, любые жертвы не напрасны. Если прорвется…
Но у Бурды и танки, и пехота, и артиллерия зарыты в землю. О, в этот час окупились недели, дни и ночи земляных работ.
С расстояния 400–500 метров ударили пушки «тридцатьчетверок», ударили иптаповские орудия, «заиграли», сотрясая землю, «катюши». Густой, медленно растекающийся дым поглотил высоту. А когда он поредел, уже не было ни четкой линии гребня, ни вытянувшихся будто на параде танков противника. Высота горела.
Мы с Катуковым находились в роте Стороженко, «железной роте», как ее звали. Здесь в каждом экипаже служил ветеран. Капитан Стороженко был, пожалуй, одним из опытнейших танкистов в бригаде. Воевал вместе с Бурдой под Орлом, дрался под Москвой, на Калининском фронте ходил на выручку окруженных.
Молчаливый, длиннорукий, он шагал вразвалочку, как матрос на суше. Не помню, чтобы улыбка хоть раз появилась на его широконосом желвакастом лице с немигающими глазами.
Установилось минутное затишье. Немцы перегруппировывались и поджидали своих пикирующих бомбардировщиков.
Стороженко не спеша вытер руки, бросил концы и не торопясь подошел к Катукову:
— Товарищ командующий, рота отражает атаки противника.
Докладывал он буднично, спокойно, как о чем-то обыденном, даже скучном. Только блестящие глаза да выступающие желваки выдавали напряжение.
— Сколько потерял?
— Один танк разбит прямым попаданием. Экипаж… Он не договорил.
— Еще ранено четверо. Один — тяжело, не выживет.
— Как воюется? — улыбнулся Катуков.
— Нормально. Снаряды есть, артиллерия поддерживает. Вот авиации маловато… А то, что он прет — так только на свою гибель. Мне здесь больше по душе, чем на Калининском. Здесь один враг — ганс.
— А там?
— Там и с морозами, и с болотами, и со снегом воевали. А еще… Разрешите откровенно, товарищ командующий?
— Давай! — махнул рукой Катуков.
— А еще с собственной бестолковостью…
— Ты бы хоть объяснил, — попросил Михаил Ефимович.
— Чего ж объяснять, тут дошкольников нет. Я своим хлопцам наказал перед боем: пусть каждый башкой работает, пора по-умному действовать… Разрешите идти? Опять начинается.