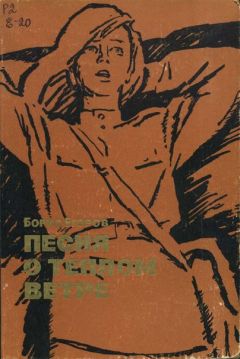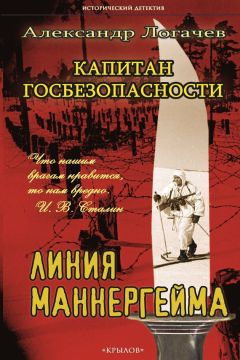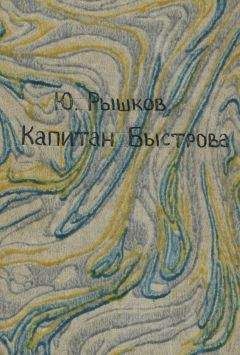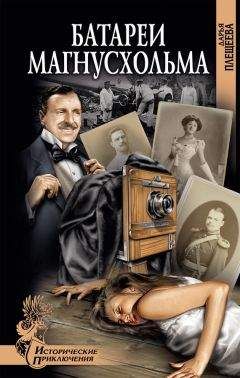Юрий Додолев - Мои погоны
В комнате, как и раньше, чуть-чуть попахивало лекарствами и слабыми духами, которыми пользовалась мать. Я перевел взгляд на туалетный столик и увидел флакон с остатками этих духов — тоненькой полоской лимонного цвета на самом донышке. Круглый обеденный стол был накрыт скатертью с вышитыми на ней узорами. На столе лежал распечатанный конверт — мое последнее письмо.
Я походил по комнате, потрогал флакон, переставил с места на место шкатулку — в ней мать хранила брошки, дамские часики с защелкивающейся крышкой и другие безделушки, разделся, лег на диван. Ноги уперлись в валик: за девять месяцев, проведенных вдали от дома, я подрос еще на несколько сантиметров.
Я проснулся и сразу понял: мать уже дома. В комнате был полумрак, на тумбочке горела прикрытая газетой настольная лампа.
— Мама? — позвал я.
Она шагнула откуда-то из темноты:
— Я все ждала, когда ты проснешься. Хотела разбудить, но ты так сладко спал.
— Надо было разбудить!
Мы обнялись. Я ощутил на своем лице материнские слезы, теплые и какие-то ласковые, и чуть не расплакался сам.
— Боже мой, каким ты стал! — удивилась мать. — Издали не узнала бы. Вырос, возмужал. Солдатская служба тебе на пользу.
— В госпитале хорошо кормили! — ляпнул я.
— Сейчас, сейчас, — забеспокоилась мать. — У меня картошка есть, сахар, немного хлебца.
— Погоди! — Я перевернул над столом «сидор», высыпал сухой паек — две банки свиной тушенки, концентраты, сухари, горсть рафинада, початую буханку.
Мать всплеснула руками:
— Какое богатство!
— Это еще что. — Я постарался произнести эту фразу небрежно.
— Пируем? — Мать вопросительно посмотрела на меня.
— Конечно!
Очень хотелось есть, но я делал вид, что сыт, подсовывал лучшие куски матери.
— А я думала, ты голодаешь.
Я вспомнил радиополк, Тоську-повариху, обкрадывавшую нас, и солгал:
— Нет, нас всегда хорошо кормили — грех жаловаться.
— Надо Коленьке что-нибудь отнести, — спохватилась мать и отложила сухарь. — Жалко его — скоро пухнуть начнет с голодухи.
Я покраснел.
— Что с тобой? — Мать застыла с хлебом в руке.
— Так, — пробормотали.
Мне было стыдно, очень стыдно: утром я пожадничал, пожалел сухарь, который теперь отложила для Коленьки мать.
За окном громыхнуло. «Бомбежка?» — Я с тревогой посмотрел на мать. Она улыбнулась:
— Это салют.
Погасив в комнате свет, мать откинула край шторы, и я увидел расцвеченное ракетами небо. Они взмывали вверх, напоминая гигантские фонтаны. За десять месяцев, проведенных вдали от дома, я отвык от этого волнующего зрелища, и теперь, не отрываясь, смотрел на рассыпающиеся в небе ракеты. Вспомнил Петровича и сказал сам себе: «Он прав. Еще немного, и фрицам хана».
— В Москве почти каждый день так, — вполголоса произнесла мать. — Люди радуются, когда видят это.
И хотя я провел на фронте всего один день, моя душа наполнилась гордостью: кто знает, может быть, несколько месяцев назад Москва салютовала той дивизии, в состав которой входила рота, бравшая опутанную колючей проволокой высотку.
После салюта мать сказала:
— А теперь — спать! Тебе отдохнуть надо, сын…
Утром, когда мать ушла на работу, мне стало одиноко.
Походил по комнате, поглазел в окно. Во дворе было тихо, безлюдно. А до войны мальчишки гоняли по двору тряпичный мяч, перевитый для прочности проволокой, на скамейках сидели старухи в платочках, два раза в неделю появлялся старьевщик, менявший пустые бутылки на «уди-уди» — резиновый чехольчик, превращавшийся при надувании в красивый шарик.
От нечего делать я решил сходить в кино, но у «Авангарда» была очередь, да и не хотелось идти в этот кинотеатр без Зои. Неожиданно вспомнил Зинин адрес, приятельницы Фомина, и направился к ней.
Поднявшись на третий этаж, постучал в окрашенную коричневой краской дверь.
— Кто там?
— Зину можно?
Звякнула цепочка. Очень похожая на Зину женщина в вязаной кофте с протертыми локтями подозрительно посмотрела на меня.
— Зину можно? — повторил я.
— А вы кто?
— Знакомый.
— Не от Фомина?
— Нет. Но его знаю.
— Проклятый парень — этот Фомин! — взорвалась женщина. — Своими бы руками задушила! Задурил девчонке голову, наследил и как в воду канул. Даже писем не пишет.
Женщина говорила долго и нервно. Я перебил ее, сказал, что тоже не люблю Фомина.
Женщина сразу успокоилась.
— А я думала — вы от него. А Зины нет — уехала.
— Куда?
Женщина потеребила край кофты.
— Далеко.
Я увидел на вешалке беличье манто и подумал: «Обманывает». Потоптался и сказал:
— Привет ей передайте.
— От кого?
— От Жоры.
— Передам, передам. — Женщина кивнула несколько раз и захлопнула дверь.
Звякнула цепочка.
Зинин дом находился неподалеку от магазина «Масло» — угол Пятницкой улицы и Добрынинской площади. До войны мать покупала в этом магазине вологодское масло. Сейчас в нем тоже продавалось масло, но только по коммерческой цене.
Зашел в магазин. На прилавках лежало все, что душа пожелает. Даже сырки в плетеных корзиночках — точно такие же, какие продавались до войны. Но цены ошеломляли. Поглазел на все это и потопал в военкомат, к Шубину. Он не узнал меня, а потом обрадовался, сказал, заикаясь сильней обычного:
— С-смотри, к-каким с-стал! Г-гренадер! Уже п-по-нюхал п-пороха или не д-довелось п-пока?
— Только что из госпиталя, — похвастал я.
Шубин уважительно помолчал.
— К-куда т-тебя с-садануло?
— Контузило. Во время атаки.
— Н-ну?
— Честное слово, — контузило!
— Д-да я не об этом. Н-неужели в-в атаку х-ходил?
— Довелось. На второй день — даже осмотреться не успел.
— С-страшно было?
— Страшновато.
Шубин задумался, и я решил, что он вспоминает бомбежку, во время которой потерял руку и стал заикой.
Мы поговорили еще минут десять, пожелали друг другу всего самого наилучшего и расстались.
21
На следующий день я пошел на «шарик». В отделе кадров, куда я заглянул за пропуском, меня узнали, стали расспрашивать, где я воевал, одобрительно посмеивались. Начальник отдела кадров похлопал меня по плечу.
— Вот каких богатырей посылает на фронт наше предприятие!
— Гвардеец! — подхватил инспектор отдела кадров — тот, который мне и двух слов не сказал, когда выписывал направление в цех.
Начальник порылся в шкафу, достал мое личное дело. Я с трудом узнал себя на маленькой фотографии: подростка с выступающими скулами и торчащим носом.
Полистав личное дело, начальник воскликнул:
— А ты, оказывается, не увольнялся?
— Не успел, — солгал я. — Повестка вечером пришла, а утром — с вещами.
— Бывает… Тебе выходное пособие причитается. И еще за восемь рабочих дней. Можешь пройти в бухгалтерию и получить. А пропуск в цех — пожалуйста. Мы фронтовикам всегда рады. После демобилизации — милости просим. Дополнительным питанием обеспечим, ордерок на костюм подкинем.
Получив в бухгалтерии деньги, я направился в цех. Хотелось покрасоваться и перед Суховым, и перед ребятами.
За фанерной перегородкой — там, где состоялся памятный мне разговор, сидел какой-то мужчина. «Странно», — подумал я и спросил:
— Ивана Сидоровича можно видеть?
— Сухова?
— Да.
Мужчина пытливо посмотрел на меня.
— А вы кто ему?
— Никто. Я работал тут.
Мужчина сунул в рот окурок, лежавший в пепельнице, сделанной из бракованной снарядной гильзы, и сказал:
— Умер Сухов. Три месяца назад.
Этого я не ожидал. Мужчина сказал:
— Не расстраивайтесь. Я недавно тут. А ребята вам все расскажут.
Я пошел к станкам. Увидел ребят, с которыми работал в одной смене, помахал им рукой. Они узнали меня, выключили станки.
— Здорово, брат!
— Здорово!
Меня снова похлопывали по плечу, вертели, оглядывали со всех сторон.
— А Иван Сидорович, говорят, того? — сказал я.
— Да. — Ребята помолчали.
— Грешно о покойнике плохо говорить, но он мне много крови испортил.
— И ты ему! Иван Сидорович тебе плохого не желал. После твоего ухода в армию часто вспоминал тебя. «Саблин, — говорил, — малый хороший, только дури в нем много». А что зудел он, так его понять можно: сын погиб. Один жил, кроме сына и бога, у него никого не было.
— Бога? — удивился я.
— Ага, — подтвердили ребята. — Сухов верующим был.
Ребята рассказывали про начальника цеха, а я мысленно представлял себе его жизнь.
В его руке письмо. В нем сказано: «Ваш сын — старший лейтенант Сухов Борис Иванович в боях за Советскую Родину пал смертью храбрых». Огромное горе обрушивается на старика-пенсионера. Он хочет одного — умереть. Несколько дней лежит, ожидая, когда придет смерть. Но она не приходит, перед глазами все время стоит лицо сына — улыбающееся, жизнерадостное. Это причиняет старику нестерпимую боль. Иван Сидорович стискивает зубы, ворочается с боку на бок, но боль не ослабевает. И тогда он встает и направляется в военкомат.