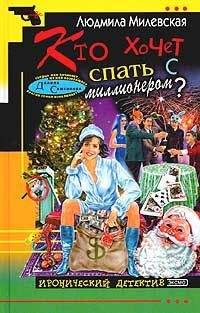Дмитрий Панов - Русские на снегу: судьба человека на фоне исторической метели
Впрочем, не могу не упомянуть, что делались попытки перевести военный, а значит грабительский, коммунизм, в экономическую плоскость. Как-то, зимой 1920–1921 года, мать отправилась на базар, намереваясь продать крынку молока и купить взамен рыбину. На базаре к ней подошел строгий представитель станичного совета и сообщил ошеломленной безграмотной крестьянке, что мечта, над теоретической разработкой которой бились лучшие умы человечества, Кампанелла, Лассаль, Бабель и Бебель, а также Карл Маркс с Энгельсом, наконец сбылась: в Ахтарях коммунизм в общих чертах уже построен. Прикладное понимание осуществления величайшего общественного учения выразилось в экспроприации у матери крынки молока. Правда перепугавшейся вдове, сразу же вручили требуемого мороженого сазана — потребность была определена с ее слов. Владельцу сазана молоко не требовалось, и его поставили на стол под базарным навесом, ожидая пока появится владелец товара, который может быть приобретен за молоко и потребоваться владельцу сазана, изъятого в пользу моей матери. Словом, марксова формула: товар — деньги — товар начала действовать без своего центрального звена и при помощи бартерных сделок. Суеты с этим бартером было столько, что идейные предшественники Хрущева, несмотря на мороз, были все в мыле, мотаясь по ахтарскому базару и спрашивая, кому что нужно. Впрочем, хорошо было уже то, что пустую крынку матери все-таки вернули на следующий день, что знаменовало собой вступление в качественно более высокий экономический этап.
Через пару недель коммунизм, построенный в отдельно взятой станице, приказал долго жить, впрочем, как все коммунизмы до и после него. Как показала история, человечество не может сконцентрировать такое количество дураков, управляемых подлецами, которое обеспечило бы функционирование данной общественной модели. Случай этот сильно перепугал мать: подобный коммунизм уж очень органично переходил в откровенный бандитизм, да и неудобно, невыгодно, неинтересно в конце-концов, рассуждала любившая, как и все женщины, пообщаться со знакомыми на базаре и поторговаться всласть, выбрав, что нужно, мать, слыхом не слыхавшая о мудреных теориях бородатых мудрецов, но сразу сумевшая дать им, как говорят, взвешенную оценку. Да вот беда, превращенные практически в религию, эти теории устраивали слишком многих проходимцев, не желавших всерьез трудиться, но любивших хорошо пожить, разгуливая с маузером на ремне через плечо.
И все-таки наша семья не сдавалась. К прокормлению, совершенно неожиданно для ожидающего нашей голодной смерти деда, подключились четырнадцатилетний Иван и двенадцатилетний автор этих строк. В торговом порту мы ловили бычков на удочку — приносили их до пяти десятков. А это уже пропитание на целый день для всей семьи. Казалось, теплое кубанское солнце, взломавшее и угнавшее в море лед на Ахтарском заливе, также прогнало и беды, обступившие наш дом. Открылась путина, принесшая прекрасные уловы судака. Я бегал к берегу помогать рыбакам перебрасывать увесистых судаков из лодки в корзину при помощи небольшого багра. Рыбаки, выходившие в море часа в два ночи — ранним утром рыба ловилась лучше всего, так наматывались на веслах, парусах и работая с сетями и вентирями, что когда часам к восьми утра подгоняли байды, колабухи и баркасы, полные рыбой к берегу, то у многих просто не поднимались руки от усталости. В уплату за помощь мне выдавалось рыбы, столько мог унести. Обычно это бывали два огромных икряных судака, которые я нес, зацепив пальцами под жабры. Лучшие рестораны мира были бы рады сегодня подать такую рыбу, белое ароматное филе судака, на стол почетным гостям. А ведь судак был сравнительно простой рыбой в невиданно богатом королевстве азовской рыбы. Богата была наша земля и много обещала своим обитателям всего несколько десятилетий назад. Но как говорят в народе: «Надолго ли дураку стеклянный член…»
На плите в кухне постоянно не переводилась уха, которую мать варила из добытых мною судаков, а мой старший брат Иван, с присущими ему дерзостью и инициативой, обеспечивал хату топливом: таскал уголь со станции и камыш-плавун, выбрасываемый морем на берег залива. И вот подошла посевная 1922 года. Деду Якову видимо все-таки удалось убедить свою домашнюю оппозицию в полезности наших рабочих рук. Тогда и было заключено соглашение, о котором я уже упоминал: дед вспахивает и засевает две десятины земли — одну под пшеницу-орновку (весенняя пшеница) и одну под бахчу, а мы работаем на него все лето. Четырнадцатилетний Иван — погонычем, я пастухом пяти дедовых коров, а мать в уборочную страду будет работать кухаркой вместе с меньшими детьми Василем, Ольгой и Николаем.
Мать, конечно, сразу повеселела и приняла все условия. Так начал свою сельскохозяйственную карьеру мой брат Иван в качестве погоныча лошадей, бредущего за животными, волокущими плуг, щедро нарезающий маслянистый кубанский чернозем, или в качестве наездника на передней лошади из четырех запряженных попарно, тянущих косилки «Жестон» или «Макорник» — русское сельское хозяйство все еще жило техникой, приобретенной в период короткого и бурного развития капитализма в стране перед Первой мировой войной. Да и вся страна, в частности мои родные Ахтари, пожинали еще десятилетия плоды того короткого созидательного периода. Даже приезжая в Ахтари уже в семидесятые годы, задумывался: ведь мало что изменилось в жизни их жителей. Становой хребет экономики станицы, а потом города, железная дорога, порт, вокзал, мощные паровые мельницы, большие ремонтные мастерские отличного механика Губкина с сыновьями, славящиеся на всю округу, конечно же арестованного и высланного куда-то в 1929 году за компанию с кулаками, хотя несли эти люди настоящий прогресс и настоящую культуру, а старший брат погиб как герой, спасая товарища по работе во время пожара в машинном отделении кинотеатра — бывшего прекрасного купеческого клуба, сейчас зовущегося «Красная звезда», до сих пор исправно служащего, построенного на средства купца Малышенко, 38 ссыпных зерновых амбара, разоренных при советской власти, был создан в то славное время. Все это дает основания мне думать, что, судя по бурному росту материального благосостояния — основе прогресса всякого общества, Россия была на правильном пути. Что же дали нашей стране и народу бесконечные встряски, сопровождаемые то террором, то голодом, которым подвергали их полубезграмотные жрецы якобы коммунистической теории? Где же мы оказались в результате крутого поворота государственного корабля, совершаемого лоцманами, которые под трескучую пропаганду о всеобщем равенстве быстренько дорвались до возможности пить, жрать и грабить? Используя метод марксистского анализа, констатирую, что корабль в результате колоссальных усилий оказался отброшенным скорее назад. Мы оказались во все той же монархии, только с элементами рабского государственного капитализма. Думаю, что если бы Россия решительно пошла столыпинским путем или путем Февраля, то результаты были бы гораздо более впечатляющими, а принесенные жертвы еще хоть как-то оправдывали бы достигнутые цели. Думаю, что сегодня наша страна на равных разговаривала бы с самыми передовыми странами цивилизованного мира. Во всяком случае, я уверен, что кубанский крестьянин не уступил бы фермеру из штата Невада. Дали бы ему землю, и он впился бы в нее, совершая чудеса. Вместо этого власть, во главе которой оказался сын сапожника, ставший крупнейшим политическим сапожником, только тем и занималась, что ломала ценой миллионов жизней упорное подсознательное сопротивление крестьянства, пытавшегося добиться выполнения лозунга, благодаря которому кучка демагогов и выехала к власти на крестьянском горбу: «Землю крестьянам».
Конечно, эти мысли не приходили мне в голову, когда двенадцатилетним мальчишкой с ранней весны до поздней осени я бродил вслед за коровами по кубанской степи. О постолах, в которые были обуты мои ноги, я уже рассказывал. Остальная одежда была не лучше, и потому приходилось крепко страдать в зной, дождь и холод. Впрочем, думаю, что, уже летчиком-истребителем, остался жив, пройдя, в частности, Сталинград, именно из-за той совершенно невероятной физической закалки, которую я получил в те годы — ее можно приравнять только к закалке скифского или монгольского воина. Случались дни, когда я с утра до вечера бродил в поле под холодным дождем или снегом, который сыпался на обнаженную голову. Конечно, были высоки шансы заболеть ревматизмом или воспалением легких и без особого шума и больших сожалений окружающих отправиться на кладбище вслед за отцом и прабабушкой. Но я выжил и закалился физически. Хотя, чего говорить, очень хотелось мне все эти четыре очень ценных для формирования личности и интеллекта года, с двенадцати до шестнадцати, ходить в школу. Многому ли научишься в общении с молчаливыми коровами, шелестящими камышами и кугой, да из довольно однообразных рассказов деда Якова о страшенном огненном змее, вырвавшемся из гигантской кости в пять аршин длиной, якобы найденной им с приятелями в плавнях, или из сумбурных фантастических повествований о наполеоновских войнах, в которых принимал участие, защищая Москву, кто-то из Пановых. Я стал остро ощущать свое интеллектуальное отставание. Дети, ходившие в школу, стали сторониться меня на улицах, не принимали в компании: «Нам грязный вонючий пастух не нужен». Если учесть, что это говорили и довольно симпатичные девчонки, мои сверстницы, к которым я уже начал внимательно присматриваться, из числа дочерей мелких служащих, торговцев и учителей: Ставруна, Лапшина, Терещенко, Беликов, то можно понять, насколько все это обижало меня и вызывало желание доказать, кто чего стоит. Но пока мне было с ними не тягаться, большинство из них к концу моей пастушьей карьеры уже заканчивало семилетку.