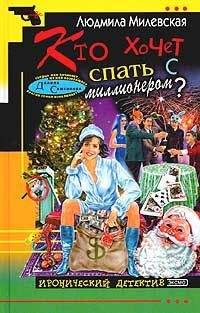Дмитрий Панов - Русские на снегу: судьба человека на фоне исторической метели
Окончательно завершив грабеж, дед поинтересовался у матери, надумала ли она переселяться в хатенку, где ей с детьми, по мнению его семьи, самое место. Мать ответила, что и она сама и дети решили все умереть, но никуда не уйти со двора, где умер отец. Дед ударился в зоологию: выругался матом, каркая, как старый ворон, плюнул как верблюд и ушел, сказав на прощание: «Подыхайте с голоду как собаки!»
Ради исторической справедливости, о которой так радели дед с сыновьями, грабя наше подворье, отмечу, что у самого деда Якова бывали проблески человечности по отношению к нам. Но он находился буквально в клещах семейной осады. Ведь кроме моего отца, Пантелея, другие пятеро детей были от его другой жены, Варвары Никитичны Дидюк. И за каждый жест жалости и снисхождения в нашу сторону деду крепко доставалось. Камнем преткновения были наш дом и хозяйство. Мне нередко приходилось слышать как дед стонал и охал, перечисляя обиды, действительные и воображаемые, которые ему нанесли при разделе имущества, отселив на сторону, а значит, лишив, как он считал, результатов труда. Всякие доводы рассудка были бесполезны, настолько дед зациклился. Трудно себе вообразить наше душевное состояние — его малолетних внуков: наш дедушка, и желает нам худа, проклинает нас. Все это не поддавалось детскому рассудку. Да и взрослому тоже. Дед жил хорошо, имел крепкое хозяйство, гораздо больше, чем наше: чего же ему еще нужно было от нас?
Но сколько нас ни обижали, гордость не входит в число добродетелей нищих. А здесь еще советская власть прислала какую-то квитанцию на уплату налога. Все это и заставило нашу маму обратиться к свекру, все тому же деду, с просьбой, чтобы он вспахал для своих внуков две-три десятины земли и засеял их, а мы будем под его руководством обрабатывать землю и помогать друг другу. К тому времени дед имел пять лошадей, четыре коровы и другой мелкий скот. Пользовался наемным трудом постоянной батрачки Елены и сезонного батрака Романа, следовательно, был кулаком, чем очень гордился. Окончательно утвердиться в этом почетном тогда звании мешало отсутствие собственной земли. Поселковый совет давал землю временно, но не скупился: во вполне достаточном количестве — только обрабатывай.
Но дед решил «додавить», как говорят борцы, нашу семью. Он поставил матери ультиматум: «Если отдашь двор с домом, тогда вспашем тебе и даже уберем три десятины зерновых». Нужно себе представить обстановку, в которой этот ультиматум выдвигался: в стране свирепствовал очередной голод, ставший потом постоянным спутником всех исторических потрясений и экономических успехов. Мне лично приходилось не раз наблюдать, как опухшие люди умирали от истощения. Особенно много погибало людей из числа беженцев с Поволжья и Украины, пораженных засухой и искавших спасения на благодатной Кубани. Впрочем, думаю, дело было далеко не только в климатических условиях: продразверстка, уже несколько лет, с применением жестоких репрессий, проводимая в стране, об этом я еще скажу, подрывала саму основу сельского хозяйства, построенного на инициативе и частном интересе производителя, который упорно не хочет работать даром на толстозадого кремлевского дядю, пусть даже и украшенного красной звездой. Резко сократились посевные площади. А здесь еще и засуха. Крестьянин рассуждал следующим образом: посею, уберу и спрячу лишь столько, сколько нужно для прокормления своей семьи. Все остальное все равно заберут под метелку, выдав какую-нибудь пустую бумажку, именуемую квитанцией. Дед Яков несколько лет, до 1927 года, таскал подобную бумажку, выданную ему в 1920 году заезжими продотрядовцами и подтверждавшую, что Яков Панов сдал государству восемьсот пудов разнообразного зерна в счет продразверстки и советская власть уплатит ему за это при надлежащем случае. Дед Яков верил, или хотел верить, что пришла серьезная власть, уважающая крестьянина, и трудился с ожесточением, но многие крестьяне сразу поняли, что наступила эра обмана, демагогии, болтовни, показухи и невиданной жестокости.
Через Азовское море с Украины баржи и небольшие пароходы, те же «Ахолон» и «Поти», грузившие хлеб еще не так давно на иностранные сухогрузы, большими массами привозили в Ахтари голодающих. Весь просторный ахтарский берег к весне 1921-22 годов на протяжении трех-четырех километров оказался усеянным огромным количеством апатично сидящих людей, уже не имевших сил двигаться. Скажу доброе слово о своих земляках-кубанцах, особенно тех, кто победнее. Если состоятельные люди, в основном, делали вид, что не замечают этого голодного нашествия, то рыбаки, приходящие с путины, в больших количествах раздавали голодающим пойманных судаков, тарань, лещей, сазанов и другую рыбу. Здесь же на берегу дымились казаны, в которых булькала наваристая уха на основе лучшей в мире деликатесной рыбы, и люди, совсем обессилевшие от голода, среди них добрая половина детей, через день-два становились на ноги и уходили вглубь Кубани к хлебным казачьим станицам. Но и Кубань была уже изрядно опустошена продразверсткой, невиданным варварским методом экономических отношений, бытовавшим на Руси разве что в период монголо-татарского ига, истощавшего страну примерно так же, как эта любопытная модель движения человечества к всеобщему благу, названная казарменным коммунизмом. Так что и на Кубани вскоре начал свирепствовать голод, хотя урожай в том году был хороший.
И вот в этих условиях прозвучал ультиматум деда, практически обрекавший нас на голодную смерть. Мать обратилась к брату, уже известному нам Григорию Назаровичу Сафьяну, который наотрез отказался помочь, направив ее к свекру. Пришлось обращаться к родной сестре — Марии Ефремовне Ставрун, муж которой имел две лошади и занимался торговлей мясом. Тот, по жлобскому обыкновению, пообещал, а в последний момент отказал, пеняя на свекра. Наша посевная срывалась, и перспектива голодной смерти семьи была более чем реальной. Муки в доме оставалось около трех мешков, а до урожая было далековато. Мать перешла на выпечку хлеба с примесью сурепной макухи, а весной — лебеды. У нас заболели желудки. Однако, как потом говорили на фронте: для кого война, а для кого мать родна. Кулаки, имевшие запас зерна и муки, нередко покупали ценную вещь или даже усадьбу с хорошим домом за один-два мешка муки или даже зерна. Наша мать, бедная безграмотная женщина, оставшаяся с пятью сиротами, совсем растерялась и пошла к своему свекру и нашему деду, прихватив в качестве аргументов меня и самого младшего брата Николая. Переговоры проистекали следующим образом: мать плакала и умоляла помочь, а дед в присутствии своей жены, бабки Варвары, помочь отказывался, поддерживаемый сыновьями Павлом, Григорием и Иваном. Условие оставалось прежним: отдать наш двор с домом. Желая спасти детей, мать стала на колени, и продолжала просить, плача при этом. Дед Яков заколебался: даже нерешительно пообещал вспахать и посеять пару десятин земли для сирот. Но на него сразу набросились сыновья и бабка Варвара. Как и при грабеже нашего хозяйства, особенно свирепствовал наш дядя Павел Яковлевич Панов, грубый и жестокий по характеру. Ожесточенный спор, сопровождаемый проклятиями и оскорблениями, не привел семью деда ни к какому решению. Наша мать поднялась с колен и заявила, что ей ничего не остается делать после окончания запасов муки, кроме как удушить себя с детьми угарным газом, перекрыв задвижку на печке во время сна. С этим мы и ушли от деда к себе домой. Нам стало ясно, что помощи ждать неоткуда.
Именно в этом время, в конце марта 1922 года, к нам в хату явилась живописная группа людей, состоящая из трех человек: моряк с маузером через плечо на ремне и два красноармейца в буденновках, которые и объявили, что явились в качестве бойцов продотряда изъять излишки продовольствия. Нашей матери было предложено показать запасы хлеба и других продуктов. Моряк, подметая земляные полы нашей хаты широченным клешами, прошелся по комнатам и сообщил для солидности, что он, по поручению Центробалта, заготавливает хлеб для голодающих. Наши излишки муки состояли из единственного мешка ячменной муки, которую мать со всяческими ухищрениями превращала в грубый хлеб черно-синего цвета. Эта мука, наряду с овощами и рыбой, иногда перепадающей нам, составляла основу рациона питания нашей семьи. Моряк пощупал ячменную муку пальцем, взял щепотку на язык, и сразу выплюнул. Однако заявил, что ведра два муки, все же нужно взять. Здесь наша мама расхрабрилась и заявила, что если он забирает последнюю муку, то пусть возьмет в придачу всех пятерых детей. Мы все, по сигналу мамы, уцепились за мешок с мукой и стали громко плакать. Моряк — огромный мужчина, смахивающий на ставшего потом популярным артиста Николая Андреева, на вид сытый и довольный жизнью, постоял в раздумье возле мешка с ячменной мукой и ушел ни с чем. К концу этого же дня он снова появился у нас в доме: принес белой муки и несколько соленых сухих судаков, которые отнял где-то в другом дворе. Продолжая славную традицию нашей родной советской власти, которой суждено было жить десятилетия, моряк щедро подарил нам ему не принадлежащее по всем божеским и человеческим законам, объявив, что это, мол, солдатка, твоим детям. Благодеяние, возможное лишь через грабеж, стало устойчивым стереотипом в сознании нашего нового человека.