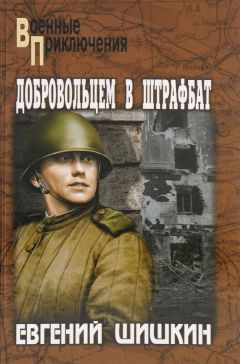Александр Проханов - Война с Востока. Книга об афганском походе
Сержант кивнул, слушая свое ухающее, уставшее сердце, тяжело бежал, шаркая по земле.
Оковалков вдруг испытал страх за этих бегущих с ним рядом людей. Он, уцелевший в бою командир, потерявший группу, должен уберечь оставшихся, привести их живыми обратно.
– Милый, Щукин, давай!.. Оторвемся и отдохнем!.. – Он обнимал сержанта, толкал его вперед, отдавал ему свои силы.
Они убегали от смерти, имевшей образ разномастной толпы, растрепанных одеяний, косматых бород. Спасались в зарослях, рытвинах, лабиринтах развалин, но земля и природа, в которой они хотели укрыться, были чужими и враждебными. Изуродованная самолетами земля не укрывала их, а была наполнена незримыми энергиями вражды. И эти духи вражды тоже таили смерть. Майор на бегу озирался, вглядывался в каждый поломанный ствол, в каждый глинобитный пролом, чувствуя близкую смертельную опасность.
Но если недавняя прямая угроза смерти вынуждала их к единственно возможному – спасению бегством, то эта, неявная, вовлекала в сложное чуткое противоборство, в котором была возможность уцелеть. Он бежал, замыкая остаток группы, готовый обернуться, ударить в преследователей, расходуя последний неполный магазин, давая уйти остальным.
Мышцы его упруго работали. Кости ходили в суставах. Сердце толкало кровь. Дыхание сжигало воздух. Вся его сила, выносливость, упрямая воля и ум были подчинены одному – бежать самому и других заставлять бежать.
Теперь, на бегу, когда погоня отстала, он мог обдумать случившееся. Неверная, выбранная в потемках позиция. Ошибка генерала, сулившего малый, слабо охраняемый караван. Фонарный лучик в развалинах, где укрылся сотенный отряд моджахедов. Второй многолюдный отряд, притаившийся в другом кишлаке. Нервный припадок Мануйлова, обнаруживший выстрелом группу. Оторванная голова радиста, подкатившаяся к самым ногам. Петерс с дырой в лице, упавший на разбитую рацию. Старший лейтенант Слобода, в тоске и безумии решивший уйти через гору. Грузины, обнявшиеся в смерти. И снова в неверном свете луны ошибочно выбранная позиция.
Пот лился, как жаркое масло. К ладони прилипло теплое цевье автомата. Мелькала пепельная, без травинки, без капли росы земля. Этот бег был, как бред, как бег в забытье. И он, отупев, с остекленевшими, немигающими глазами бежал, повторяя многократно одни и те же движения рук и ног, сипло дышал, глядя, как мелькают впереди подошвы сержанта.
В этом сне на секунду ему показалось: он мальчик, бежит по белой, теплой дороге. Вокруг розовый спутанный клевер, мохнатые, в пчелином гудении головки. Через дорогу – плоский ручей, ноги в льдистой воде, на лице холодные брызги. Бузина на заросшем кладбище, красные ягоды, узорные с письменами кресты. И из зеленой прохладной пшеницы поднимаются серебряные кровли деревни.
Очнулся. Бег по афганской «зеленке». Под ногами хрустят черепки. Едкая горчичная пыль. Земля, над которой пролетели самолеты.
– Стоп!.. Встали!..
Разумовский замедлил бег, остановился, подымая и опуская плечи. Все сгрудились, дышали, стирали пот, запаленные, затравленные. Щукин упал на колени, ткнулся лицом в землю, лопатки его ходили ходуном.
– Оторвались!.. Передых!..
Они озирались во все стороны. Их руки сжимали оружие.
Кругом, как высохшая шкурка с колючками шерсти, топорщился виноградник. За ним безжизненно и серо, обнесенные растресканны-ми валами, тянулись поля. Но дальше зеленел ломтик живого поля, за ним виднелся неразрушенный глинобитный дом с полукруглой кровлей. Арык, который питал изумрудный клочок земли, был черный, влажный от недавно пробежавшей воды.
– Пить! – сказал Мануйлов, облизывая коричневым прокушенным языком шелушащиеся губы. – Нутро горит!..
– Там небось в доме колодец, – сказал Бухов, сплевывая рыжую, как желчь, слюну. – Говорил, не надо фляжки у людей отнимать! – И он зло взглянул на Разумовского, который ночью успел отобрать фляжки, зарыл их в землю, сохраняя запас воды. – Надо в дом смотаться!
– Разведать надо! – Саидов обратил к дому похудевшее, с провалившимися глазами лицо, словно внюхивался в отдаленное строение, улавливал запахи воды, пищи, скрытых за дувалом людей. Старался учуять опасность.
– Тут через «зеленку» канал проходит, – сказал Крещеных, не выпуская пулемет. – Дойдем до канала, ночью по нему до бетонки сплавимся.
– «Вертушек» ждать не приходится. Без связи на своих двоих будем топать, – Разумовский выдирал из усов катушки грязи.
– Пить! – ворочая зазубренным языком, повторил Мануйлов.
– Пойдем в дом, – сказал Оковалков. – Крещеных, Бухов – с левого фланга… Саидов, Щукин – с правого… А мы, – он кивнул Разумовскому, – в калитку… Щукин, подъем! – грубовато-бодрым окриком он поднял лежащего сержанта, заметив, какое белое с синим отливом у него лицо.
У калитки, вмурованной в глиняный монолит, Оковалков приложил ухо к корявым доскам. Легонько надавил плечом. Калитка раскрылась, и вслед за автоматным дулом он бесшумно скользнул в квадратный двор. Отпрянул, давая место Разумовскому, готовому стрелять навскидку.
Двор был пуст. У ограды лежали аккуратные кучки хвороста. В землю были вмурованы глиняные сосуды. В тени стояла двуколка с опущенными оглоблями. Из-за глиняной стены виднелась купольная кровля дома с маленькими темными продухами. Глянцевито поблескивала листва дерева.
– Кто-то есть, – одними губами произнес Разумовский, ступая на кучу сухого навоза, щепок и птичьих перьев.
За стеной раздавался лепет ребенка, женский смех, плеск воды. На этот желанный плеск, ведя автоматной мушкой, устремился майор, подступая к деревянным синим воротцам, врезанным в ограду.
Они ворвались на внутренний двор одновременно: Оковалков, ударив ногой воротца, Бухов, перемахнув через дувал, Крещеных, пробежав по кровле дома, ухнув на землю со своим пулеметом.
Они увидели выложенную плитками землю, маленький в каменном обрамлении колодец, черноволосого крохотного ребенка в красном платьице и молодую женщину, голую по пояс, склоненную над тазом, обливающую себя водой. Ее смуглые груди колыхались, блестели, мокрая кудель под мышкой слиплась, платье, расстегнутое и опущенное к бедрам, потемнело от воды, черные волосы, спадая, касались овального таза и медного, с высоким горлом кувшина.
Она распрямилась, глаза ее сквозь опавшие смоляные волосы начинали мерцать ужасом, а округлый, с темным пупком живот сотрясался от крика.
– А-а-а! – кричала она, хватая за руку ребенка, отступала и пятилась, опрокинула медный кувшин. – А-а-а! – топотала она маленькими голыми ступнями, двигалась к низенькой арке, отступая от потного огромного Бухова.
Тот медленно, автоматом выдавливал ее прочь со двора, пока она не исчезла в арке, и оттуда все раздавался, не замолкал ее крик.
– Пусто, командир! – сказал Крещеных. – Только баба одна. Дом осмотрел. – Он опустил пулемет и направился к колодцу, и все окружили маленький с близкой водой колодец.
Крещеных зачерпнул кувшином, протянул медно-пятнистый узкогорлый сосуд, отекающий капелью. Отворачивал от него свое щетинистое, с обвисшими усами лицо, красные, набитые пылью глаза.
– Ну бери кто-нибудь!
Первым, торопясь, стыдясь своего нетерпения, схватил кувшин Мануйлов. Сунул в узкую горловину рот, не достал воды, наклонил, проливая плещущую блестящую воду. Стал пить, лакать, захлебывался, кашлял, снова пил, высовывая быстрый ненасытный язык. Он был похож на собаку, и казалось, он пьет и плачет.
Следом пил Щукин, медленно, взасос, припав к медной горловине, тянул, вдыхал, всасывал в себя холод, влагу, пропитывался ею, хмурил от страдания и наслаждения брови. Отяжелел, осовел от воды, не мог больше пить ртом и, отведя кувшин от губ, все еще продолжал пить глазами.
Таджик Саидов наливал из кувшина маленькие аккуратные горсти. Промыл себе глаза, уши, губы. Захватил воду в рот, прополоскал и выплюнул блестящую струйку. И лишь потом, подготовив себя к воде, начал пить маленькими глотками, не проливая, по-птичьи дергая смуглым упругим горлом.
Бухов пил шумно, чавкал, бурля водой в зубах. Лязгал резцами по медному кувшину, словно грыз его вместе с водой. Его раскаленная плоть шипела, остывала, наполнялась упругой силой. На щеках заиграл румянец, и он, почерпнув из колодца, вылил себе кувшин на голову, тряхнул короткими волосами, сбрасывая с них мелкие брызги.
Крещеных пил мало, зло, издавая свистящий звук, словно стонал, ненавидел воду, кувшин, чужой колодец. Напившись, ополоснул свои толстые волосатые руки, промыл цевье пулемета, липкое от пота и грязи.
Разумовский пил с наслаждением, щурил синие глаза, закрывал их, словно пел. Его усики, орошенные водой, снова ярко, золотисто заблестели. Он их облизывал, словно вода, пропитавшая усы, была сладкая, медовая.
Оковалков пил последним, чувствуя, как падает ему внутрь холодная тяжелая струя, и оттуда, изнутри, холод и свежесть начинают проникать в грудь, в плечи, в пах, в колени. Топка, в которой клокотали его ужас, несчастье, растерянность, начинала остывать, и в остуженном сознании открывалось место для спокойной уверенной мысли: они спаслись, уцелели, и теперь наступила для него, командира, возможность выиграть вторую, завершающую часть боя: добраться к своим, одолеть невидимую, присутствующую рядом опасность.