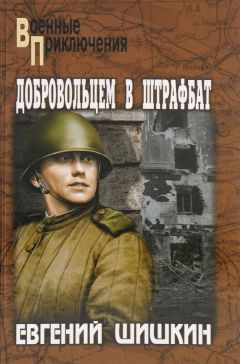Александр Проханов - Война с Востока. Книга об афганском походе
Оковалков пил последним, чувствуя, как падает ему внутрь холодная тяжелая струя, и оттуда, изнутри, холод и свежесть начинают проникать в грудь, в плечи, в пах, в колени. Топка, в которой клокотали его ужас, несчастье, растерянность, начинала остывать, и в остуженном сознании открывалось место для спокойной уверенной мысли: они спаслись, уцелели, и теперь наступила для него, командира, возможность выиграть вторую, завершающую часть боя: добраться к своим, одолеть невидимую, присутствующую рядом опасность.
Они отдыхали, сидя в тени ограды, глядя на глянцевитое дерево, на ветхое крылечко дома, на медный, стоящий на влажных плитах кувшин.
– Бухов, пойди оглядись! – приказал Оковалков, извлекая из кармана сложенную, засунутую в целлофан карту. – Погляди на окрестность! – отсылал его майор, направляя за пределы двора, где вдоль арыка и зеленого поля вилась дорожка.
Они склонились с Разумовским над картой. «Зеленка», в которой они оказались, тянулась непрерывной, расширявшейся долиной, откатываясь от гор. По этой долине была прочерчена синяя линия, дважды изломанная под углом. Канал, прорытый среди кишлаков и полей, питал равнину. К нему надлежало им выйти и, следуя вдоль русла, под покровом ночи, выбраться к трассе, по которой днем двигались военные колонны, стояло боевое сопровождение.
– Километров тридцать будет, – сказал Разумовский, поглядывая на солнце, определяя направление на канал. – Часов шесть протопаем, доберемся.
– Базовый район доктора Надира, – сказал Оковалков, проводя на карте овал, который предстояло им пересечь.
Среди развалин, бомбовых воронок и зарослей были проложены едва заметные тропы, таились наблюдательные и опорные пункты. В разгромленной, лишенной мирных обитателей «зеленке» продолжалось движение вооруженных групп, велось наблюдение, происходили стычки и примирения. Непоседливые вспыльчивые полевые командиры делили зоны влияния.
– Если не напоремся на дозор, к вечеру выйдем к каналу. Хочу тебя попросить, – Разумовский тронул его за рукав, и голос, которым он это сказал, был умоляющий и печальный. – Прошу тебя, если меня подстрелят, дотащи до части. Не хочу здесь тлеть. Пусть дома похоронят. Обещаешь?
Оковалков не ответил. Разумовский не повторил свою просьбу. Она была неуместна, была в нарушение правил. Не об этом надлежало им думать.
Оковалков начал складывать карту, засовывая ее в прозрачный пакет, когда услышал за оградой женский вопль. Крик был истошный, захлебнулся, опять разразился.
Майор вскочил, увлек за собой Разумовского. Опережая их, враскоряку, выставив пулемет, метнулся к арке Крещеных. Они одновременно, втроем, очутились на соседнем подворье.
На земле, завалив женщину, дергался, вращал голым задом Бухов. Сидя на земле, орал и плакал ребенок. Вдоль изгороди сильными скачками подбегал молодой афганец, занося для удара кетмень. Все свершалось одновременно – дрожали разодранные врозь женские голые ноги, ходили вверх и вниз незагорелые ягодицы Бухова. Афганец, оскаля белые зубы, наотмашь вгонял в стриженую макушку Бухова отточенный о землю блестящий кетмень.
Металл, прорубая кость, погружался в глубину мозга, выдавливал из головы черную жижу. Смерть, проникая в Бухова, породила в нем последний, встречный взрыв жизни. Он забился, затрепетал, и Крещеных от живота длинной хлещущей очередью перестрелил пополам афганца. Надвигался на него, продолжал стрелять, разворачивая в нем огромную лохматую воронку.
Женщина, голая, мотая грудями, сбросив с себя мертвеца, стояла, залитая слизью, мозгом и кровью. Убитый муж и насильник валялись лицом к лицу.
– Погань!.. Жопа баранья!.. – сказал Крещеных, отводя пулемет, устало, на полусогнутых ковыляя обратно к колодцу.
Кинул пулемет на землю, окатил себя из кувшина водой. Здесь больше нельзя было оставаться. Пулеметную очередь слышали в «зеленке», и сюда уже мчались разведчики.
– Берите его! – приказал Оковалков подошедшим Мануйлову и Щукину.
Вчетвером за руки, за ноги они вынесли Бухова со двора, пронесли вдоль арыка к пепельному, с черными охвостьями полю.
– Клади сюда! – показал Оковалков на край поля, огражденный невысокой лепной стеной.
Бухова положили. Он тяжело уронил руки, завалил голову. Мануйлов натянул на него штаны, закрыл перепачканные мокрые бедра. Оковалков ударил подошвой в стену. Сухая глина рухнула, завалила Бухова. Щукин и Мануйлов набрасывали на тело комья спекшейся почвы.
Майор достал карту и крестом отметил место, где засыпали Бухова. Сюда, к этому полю, если они выберутся живыми, он посадит вертолет и заберет труп. Пряча карту, глядя на груду земли, Оковалков заметил пробежавшего и замершего на кромке земли серого паучка: маленький божок, соглядатай «зеленки», ведающий обо всем.
Они уходили, торопясь, не оглядываясь, оставляя на хуторе женщину с убитым мужем.
Смерть не отпускала их, неслась за ними в пустом серо-синем небе, не оставляя тени, всматриваясь в каждого. Выбрала Бухова. Позволила ему уцелеть на горе, выбежать из-под пуль, а потом догнала, вселилась в него похотью, проникла в семя и убила его. Еще теплый, он лежит на чужом поле, засыпанный чужой землей, и его мать и отец, не ведая об этом, толклись в повседневных хлопотах в маленьком городке, и ничто не подсказывало им в эту минуту, что сталось с их сыном.
Так думал майор, тупо шагая, понимая, что не он составляет план спасения группы, а кто-то иной, всемогущий, не злой и не добрый, знающий все наперед, вписывает их в свой замысел.
Он шел впереди вместе с Мануйловым, который после гибели Бухова обрел автомат. Остальные четверо приотстали, и майор то и дело оглядывался, пересчитывал их, боясь потерять.
Солнце пекло. Снова хотелось пить. В садах, которые они проходили, не было тени. Безлистые корявые ветви пропускали жалящие лучи. Земля сквозь носки и подошвы кроссовок жгла ступни, словно близко под пепельной почвой горел угрюмый огонь.
Они миновали старое кладбище, поросшее колючками. Казалось, кто-то цепкий хватает их из могил, и на брюках, на носках оставались сухие впившиеся семена, как метки, по которым их можно отыскать.
Они проходили поле с воронками от бомб, и в каждой дергалась лиловая горячая плазма, сохранившая температуру взрыва.
Иногда они натыкались на едва заметные тропки и тут же старались от них удалиться. На этих тропках мог внезапно появиться разведчик в чалме и чувяках. Его нельзя было убить – исчезновение разведчика могло разбудить и встревожить всю млеющую, сонную под полуденным зноем «зеленку». Из невидимых нор, из развалин, из подземных колодцев – кяризов станут выскакивать бородатые вооруженные люди, искать убивших разведчика.
Над камнями, сухими руслами, руинами кишлаков струился стеклянный воздух, колебал очертания, отстаивал, выпаривал их в небо. Словно реяли души убитых, тех, над кем пролетели самолеты.
Голова гудела, мысли кипели, как в завинченном перегретом котле. Виделась мать, вернувшаяся с мороза домой, занесшая в теплую комнату запах снега. Вспоминался их дом, темный на белом снегу, и заснеженный до крыши дровяной сарай. Появлялось забытое лицо соседской девушки, ее маленькие валенки, оставлявшие на снегу вереницу следов. И тут же возникали раздвинутые, в конвульсиях, колени афганки, раздвоенный, сотрясаемый зад Бухова.
Он оглядывался: пересчитывал тех, кто шагал следом. Вел к каналу, сопрягая спасение с этой прохладной водоносной струей. Вдали, за горячим волнистым полем, среди струящихся студенистых слоев, вдруг возник человек. Огромный, до неба, в шароварах, в чалме, в развеянной накидке. Шел, не касаясь земли, нес на плече гранатомет. Мираж подхватил на далекой тропе стрелка, увеличил, поместил в слои стеклянного воздуха, перенес на волнистое поле. Огромный размытый моджахед, прозрачный для света, шел, струился, исчезал в садах и арыках.
Они шли разоренным селением среди щебня и глины. Кишлак с обрушенными куполами, сломанными стенами, остатками фундаментов был похож на раздавленную ракушку, в которой умер и высох моллюск. Мануйлов, тощий, измученный, переживший свой первый бой, испытавший ужас, разговаривал, подбадривая себя разговорами.
– Бухов – он все о женщинах говорил… Одно на уме было… Официантке деньги носил… Ночами спать не мог… А ведь у него в Союзе девушка есть… Он ей письма нежные слал… Ларисой зовут…
Оковалков вдруг подумал – семя, брошенное Буховым в момент своей смерти, оплодотворит женщину, она родит, рожденный станет жить в этой афганской «зеленке», и какие видения, какие сны будут мучить его, рожденного от семени мертвого?
– У меня девушки пока нет, – продолжал Мануйлов, не требуя ответа, благодарный за то, что ему позволяют говорить. – Я с одной дружил, на математической олимпиаде познакомились. Задачку ей помог решить. Сначала встречались, а потом она говорит: «Ты еще маленький!»
Оковалков запнулся – шнурок на кроссовке развязался, попадал под ступню. Надо было остановиться, завязать шнурок. Но не хотелось прерывать движение, останавливаться в этом разбитом, посыпанном рыжей пудрой кишлаке, где в развалинах темнели норы от погребов и фундаментов.