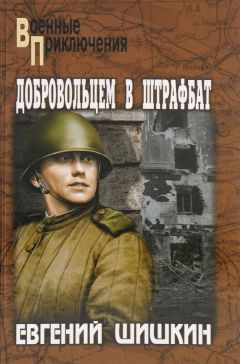Александр Проханов - Война с Востока. Книга об афганском походе
Все было понятно и просто. Боя не будет. Они дождутся, когда пройдет караван, конвой выйдет из укрытий, на тракторах или в седлах проследует дальше в горы, провожая тележки, где в тюках и в ящиках в масле, в сальных обертках лежат автоматные стволы «безоткатки», «эрэсы», ребристые итальянские мины. Это оружие, сработанное на заводских конвейерах, доставляется морем в Карачи, перевозится в грузовиках до границы, достигает перевалочных баз, а оттуда отдельными партиями расходится по воюющей, непросыхающей от крови стране.
Их группа дождется, когда пройдет караван, по бесшумному взгляду командира оставит позицию и бесшумно уйдет. Двинет в обратный путь среди белого пекла, изнемогая от тяжести нерастраченного боекомплекта и продовольствия.
Оковалков смотрел, как приближается к месту засады головной трактор. Мануйлов, затягиваемый в движение медлительных колесных машин, вытянулся вперед и слепо ударил с горы длинной неверной очередью. Крещеных метнулся к нему, выбил автомат:
– Что же ты, сука, наделал!
Засада, вся цепь лежащих солдат, уже стреляла, молотила колонну. Передний трактор с убитым водителем свернул на обочину, пополз вверх в гору, стал заваливаться, перекручивая тягу, опрокидывая тележку с грузом.
Оковалков видел, как останавливаются, ломают интервалы тракторы. Из них выпрыгивают стрелки, рассыпаются по обочине, начинают стрелять вверх по горе. Из обоих кишлаков, из развалин, как из-под земли начинают вываливать две пестрые толпы вооруженных быстроногих людей. Он все это видел, понимая, что случилось непоправимое несчастье.
Крещеных, сжав виски, продолжал повторять:
– Что же ты, сука, наделал!
Трактор с убитым водителем лежал на боку, вращая колесами. Другие тракторы, выбрасывая гарь, торопились вперед по дороге, уходя из-под обстрела. Конвой принимал на себя огонь засады, бил вверх в гору, стрелки прятались в рытвинах и в кюветах, посылали вдоль склона беглые неточные очереди. Пули посвистывали над головой Оковалкова, несколько пуль клюнуло в склон, подняв перед его лицом столбики пыли.
– Отходим!.. По старому следу! – крикнул он Разумовскому, видя, как капитан боком, на четвереньках, хоронясь от очередей, движется вдоль залегшей цепи. – Уводи людей, мы прикроем!
Но в той стороне, куда он махнул, у развалин кишлака Усвали, уже стреляли. Пестрели одежды, бежала, словно выталкивалась из-под земли толпа. Туда бил пулемет Крещеных, бугрилась его спина, ерзали, скользили по камню подметки, из-за щеки летели медные яркие брызги.
– Слобода! – крикнул майор старлею. – Держи свой фланг! Не давай им с фланга зайти!
Но и там, где горчично желтели развалины кишлака Шинколь, тоже стреляли. Вверх по склону карабкались люди, занимали гребень. Очереди с той стороны ложились ближе, прицельней, царапали гору вокруг лежащих солдат.
Оковалков, перебрасывая молниеносный взгляд с одного кишлака на другой, на бегущую с обеих сторон толпу, оглядываясь на тенистую кручу, пережил мгновение отчаяния. Группа была стиснута с флангов, отход по круче был невозможен, отходящих перестреляют в спину. И лежа у лисьей норы в цепи, которая все еще по инерции продолжала стрелять в хвост исчезающего каравана, он испытал животный ужас, желание скрыться, превратиться в лису, втиснуться в горловину горы, забиться под землю и там под землей, свернувшись в пушистый клубок, переждать этот бой, топот ног, хрипы боли и ненависти.
Эта паника продолжалась секунду. Он опять возвратился в бой, в его геометрию, где на флангах копились массы противника, внизу у дороги залег и стрелял конвой, а гора за спиной мрачно темнела, окруженная желтой зарей.
– Круговую оборону!.. «Агаэсами» всади им налево!.. Крещеных, не давай им просочиться на фланг!.. Радист, на связь!.. Вызывай «вертушки»!.. Слышишь меня, радист!..
Петере колыхал стебельком антенны, дергал тумблеры, крутил настройку. В этом было спасение. Он, майор, совершил ночную ошибку. Обманутый светом луны, исказившим ландшафт, посадил группу в ловушку. Не внял ночному инстинкту: лучу фонаря на развалинах. Не поверил пробежавшему по горе шороху тревоги и страха. И теперь спасение было в ручках и тумблерах рации, которые крутил белобрысый латыш. С хлыстика антенны сорвутся вопль и мольба о помощи, ее услышат за горами, из-за черной вершины, черные на латунной заре вынырнут горбатые вертолеты, спикируют на дорогу, превращая в лохматые взрывы атакующие толпы врага.
– Петерс, где твоя связь?
– «Береза»!.. «Береза»!.. Я – «Гроза»!.. Как слышите меня?… Прием!..
Оковалков увидел, как внизу у дороги поднялся гранатометчик – черные непокрытые волосы, белые шаровары, пусковая труба на плече. Ком света с рыхлой угольной трассой вылетел из трубы, приблизился, проревел над головой и грохнул в гору коротким сальным взрывом. Повесил на круче тампон черной ваты. Майор не успел послать в гранатометчика очередь – тот исчез. На фланге «агаэсчик» швырял лепешки гранат, и они превращались в кудрявые барашки разрывов.
– Ну где твоя связь, черт бы тебя побрал!..
Гранатометчик из кювета снова поднялся – черные, развеянные до плеч волосы, белый пузырь шаровар, труба на плече. Оковалков бил, вгонял в него с горы очередь, и в момент, когда полыхнула труба, гранатометчик падал, срезанный его пулями. Граната летела, осыпая копоть, несла мерцающую глазницу. Грохнула в цепь, в лежащего второго радиста, и в черном дыму, в расплавленных брызгах раздалось несколько криков. Из дыма вылетела оторванная голова радиста, окровавленный клубень с обрывками корешков. Майор заметил живые умирающие глаза головы, зубы в открытом рту, белесые, дыбом стоящие волосы. Он продолжал стрелять, не давая подняться другому, мелькнувшему в кювете гранатометчику.
– Санинструктор! – послышалось в цепи.
– Петерс! – торопил Оковалков. – Где твоя связь?…
Латыш крутил настройку, нервничал, озирался на гору, на небо с зарей, словно в ней искал причину, мешавшую выйти на связь.
– «Береза»!.. «Береза»!.. Я – «Гроза»!.. Как слышите меня? Оковалков вдруг вспомнил на долю секунды, чтоб тут же забыть, -
сегодня у Петерса день рождения. Вчера в столовой ставили перед ним сладкий торт, желали счастья, а сегодня под огнем он крутил молчащую рацию, и в камнях, как разбитый кувшин, лежит оторванная голова второго радиста, и нет времени ужаснуться, нет времени ее подобрать, ибо с фланга, где грохочет пулемет Крещеных, поднимаются, перебегают, падают быстроногие упрямые моджахеды, замыкают окружение, подбираются к малой, пойманной в ловушку группе.
– Где «Береза»?… «Вертушки» нужны! – заорал на латыша Оковалков, связывая с ним, с чешуйчатым стебельком антенны надежду на избавление.
– Фон, товарищ майор! Гора экранирует! Надо в сторону!.. Мешает гора!
Гонимый криком майора, мучаясь несовершенством прибора, чувствуя себя виноватым, Петерс вскочил и, сгибаясь, неся брусок станции, кинулся из цепи на пустое бугристое место, где не лежала тень горы, а желтело, блестело солнце. Он выбежал из тени, весь осветился, припал на колени, окруженный сиянием, словно сам излучал сигналы и зовы о помощи. Они срывались с его рук, лица, бритой головы. У майора не было голоса крикнуть ему: «Обратно!» Не было сил броситься и вернуть его в цепь. Не было воли остановить его безрассудство.
Петере стоял на коленях над рацией, словно умолял ее, прижимался к ней губами, выдувал сквозь хрупкую соломинку антенны позывные спасения.
Оковалков увидел, как несколько пуль с чмоканьем вошли ему в спину. Брызнули осколки рации, и на изумленном лице радиста возникла черная, как второй рот, дыра от выходного отверстия тяжелой пули. Он падал на рацию, давил ее своим убитым телом. И в том месте, где только что, освещенный солнцем, в сиянии, стоял коленопреклоненный радист, была пустота, безжизненный свет желто-белого солнца, и оно, съедая тень, надвигалось на лежащую цепь, несло с собой неизбежность, неотвратимость истребления.
На фланге, где замолчал, не стрелял автоматический гранатометчик, опять поднялись атакующие. Их тесное многолюдное толпище вдруг излилось, перехлестнуло гребень и стало приближаться. Впереди в пузырящихся шароварах, в безрукавке, с маленьким зеленым флажком бежал командир. Оглядывался, махал трепещущим стягом, подбадривал криком. Волна атакующих отвечала гортанным бессловесным клекотом.
Оковалков выцеливал его, держал над мушкой его пузырящиеся штаны, трепещущий зеленый лоскут. Срезал короткой очередью, видя, как толпа атакующих пробежала по нему. Замолкший «агаэс» опять заработал короткими вереницами разрывов. Вал атакующих, попав под разрывы, отхлынул, оставив на склоне убитых. Среди них шевелился, пытался подняться вожак с зеленым флажком.
Близко в цепи, сквозь треск очередей Оковалков услышал нарастающий бессловесный звук, животный вой, длинное непрерывное «о-о-о». Старлей Слобода с засученными рукавами, держа автомат, поднимался с земли, обращая невидящее лицо к Оковалкову и мимо, поверх лежащих солдат, к отвесной тенистой горе, из-за которой изливалось солнце. Кромка горы была оплавлена, и глаза Слободы казались рыжими и безумными. Издавая свое бесконечное «о-о-о», он шел к горе, побежал, кинулся вверх по круче, осыпая каменные гривы. Бросил автомат и двумя руками, цепляясь за уступы и камни, карабкался ввысь, стремился к вершине, желая перевалить через нее, уйти из этой ложбины за гору, за хребет, где ждали его жена и новорожденный сын. Цепко, по-обезьяньи преодолевал вертикаль. Двигался словно муха по отвесной стене. Убегал от майора, загнавшего их всех в ловушку, обрекшего на смерть.