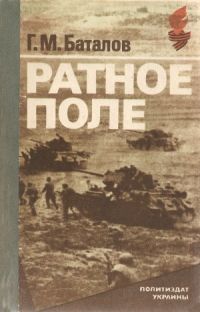Василий Масловский - Дорога в два конца
Глянул еще раз на яр, отряхнул, размазал в пальцах желтую пыльцу полыни, ощущая ее щемящую горечь, и побрел в мастерские.
«О мерах наказания за нарушение населением приказов оккупационных властей:
1. Запрещается: хождение гражданского населения вне пределов места жительства без особого письменного разрешения (пропуска), выданного ближайшей воинской частью.
2. Запрещается: гражданскому населению находиться вне дома по наступлению темноты без особого…
3. Запрещается: принимать на жительство к себе лиц, не принадлежащих к числу местного населения.
4. Население должно немедленно сообщать старосте о нахождении в деревне чужих лиц.
5. За всякое содействие большевикам и бандитам и за причиненный германским вооруженным силам ущерб виновные будут наказаны смертной казнью.
Главнокомандующий германскими войсками».
— А вот гражданская власть что приказывает, — Алешка споткнулся о железный обод колеса на полу кузницы, вытащил из кармана другой листок. Лицо нахмурилось.
«Казаки и иногородние!
1. Тайный забой скота принимает недопустимые размеры. Этим вы наносите ущерб государству и самим себе. Тайный забой скота является саботажем и будет наказываться смертной казнью.
2. В последние дни многие покинули свои рабочие места и разбрелись по окрестным хуторам. Есть поздние выходы на работу и ранние уходы, Рожь, пшеница и другие культуры находятся в поле неубранными. Кто не будет исполнять требования немецких властей о работе в поле и других местах, будет также наказан смертной казнью.
3. Приговор за преступления, указанные в пунктах 1 и 2, будет немедленно приводиться в исполнение через публичное повешение.
Уездный комиссар Мойер».
— Хоть и не живи, туды его мать. За все повешение.
— Вот дождались, а-а!..
— А про какое государство там сказано? Кому ущерб?
— Немецкое.
— Так оно и мы теперь немецкие.
— Брешешь, упырь чертов!
— Сбреши лучше! — заспорили мужики, спозаранку собравшиеся в кузнице.
— Она и прежняя, советская власть не дюже миловала. — Землистое, в пороховой сыпи навеки въевшейся угольной пыли лицо кузнеца Ахлюстина сбежалось морщинами, из-под колючей щеточки усов желто блеснули корни съеденных зубов. — Кому двадцать пять процентов, принудиловка, а кому и тюрьма.
— А ты, Ахлюстин, слыхать, мельницу ладишь в Лофицком открыть свою?
— Надоело из чужих рук кусок выглядывать. — Ахлюстин снял с гвоздя дырявый брезентовый фартук, накинул лямку на шею, завязал концы за спиной. — Солнце в дуба, а вы все байки гнете. Какой же власти такая работа по нутру придется. Тащи, Алешка. Тащи полосовое железо.
Покряхтывая и матерясь, мужики неохотно стали расходиться, гадая, чем же занять этот длинный, только начинающийся день.
К обеду Алешка и Ахлюстин нарубили полос, пробили в них с обоих концов дырки.
— Будем конный привод делать. Молотить боле нечем, — пояснил Ахлюстин. Опаленные щетки бровей недовольно топорщились, он тяжело, с присвистом, дышал окалиной и угольной пылью. — У Гадючьего вроде ноне ночью Дон перешли. Не слыхал?
Алешка мотнул головой, на шее узлами вздулись жилы, поднял полосы и поставил в угол.
— Алеша! Алеша! — В двери кузницы стояла Ольга Горелова, инженерова дочка. Лицо бледное, воротничок старенького платья прыгал от колотившейся жилки на шее.
Толкаемый внезапным и неясным смятением, Алешка оттеснил Горелову от косяка двери, быстро провел через пустое и прохладное помещение для ремонта тракторов. За мастерскими, на солнечной стороне, остановились.
— Ну что у тебя?
— Андрея видели.
— Кто видел? Где видели?.. Что ты мелешь? — Алешка оглянулся, увлек Ольгу подальше за угол.
— Галиевский дед. У Варвары Лещенковой. Этой ночью разведка была.
— Какой дед? Какая разведка, Оленька? Говори толком.
— К Варваре Лещенковой только что дед из Галиевки явился. Родня. Так говорит, будто Андрея видел этой ночью. Андрюшку Казанцева. Разведка из-за Дона. Дед, на Галиевской ссыпке встречал Андрюшку раньше.
— Что он еще рассказывает?
— Ваш хуторец, говорит, сразу признал.
— Что ты заладила. — Рыбья лузга нескрываемых и загаром веснушек на лице Алешки потемнела, он в нетерпении покусал губу — Ты вот что, — коротко глянул через плечо, — передай этому деду — нехай здорово языком не треплет. Как бы дядька Петра, отца Андреева, не загребли.
— А правда это, Алеша?
— Что правда?
— Про Андрея в Галиевке. Тут же всего двадцать километров. — Ольга оттянула душивший ее ворот старенького платья и закрыла лицо руками. Меж пальцев высочились слезы. — Он там, Алеша! Там! — почти выкрикнула она и задохнулась в плаче. — Там, Алеша!..
— Ну что ты, что ты. Перестань. — Алешка обнял Ольгу за плечи, прижал к себе и по тому, как вздрагивали эти плечи, чувствовал накаты рыданий. — Перестань. — На душе вдруг стало невыразимо тоскливо и пусто. Это он и свел Андрея и Ольгу. Прошлой весной. Большой, неуклюжий Андрей был стеснительным. Никогда бы не подошел к Гореловой сам. Он пригласил их в кино и оставил одних. С того кино они и стали дружить. Высокая, по-восточному смуглая — смуглыми казались даже ее глаза и губы, яркие и свежие, — Ольга нравилась многим ребятам. Но в глазах и лице ее было что-то гордое, отпугивающее. Андрею она покорилась сразу и теперь вот плачет.
— Что же делать, Алеша? — Распухшие мокрые глаза Ольги сияли горячо и нестерпимо, припухлость, мысик на верхней губе, подрагивала.
— Не знаю, Оленька. Не знаю. — Взгляд Алешки задержался на сияющих глазах, припухлом мысике. — Не знаю, — повторил в отчаянии. Сам думал: «Значит, Дон одолеть можно!..» И сердце его билось гулко и часто.
Глава 13
Солнце перевалило за полдень. Косая короткая тень скирды передвинулась, и тощие ноги Гришки Черногуза оказались на припеке. За углом скирды, вытаптывая босыми ногами колючую стерню, толкались, спорили подростки, клацали Тришкиным карабином. Патроны высыпали Гришке в свалившийся с головы картуз. Красный муравей пробежался по желтому Тришкиному телу, выше засаленного пояска штанов, остановился, словно бы в раздумье, и сомкнул челюсти-кусачки.
— Что?.. Кто такой? — всхрапнул Гришка и сел, очумело озираясь. Ладонью вытер мокрый рот, поскреб мятую красную щеку. В картузе, блеснув жаром меди, звякнули патроны. — Опять, чертовы головы, карабинку. Вот я вас… — Привел себя в порядок, отобрал карабин, нашел Казанцева, Воронова, баб за другим углом скирды. — Прохлаждаетесь?.. Солнце на втором круге, а вы дрыхнете!
— У самого морда красная, распухла.
— Ему можно: он — власть.
— Подлюшную должность ты выбрал себе, Гришка.
— А вам что — лучше, если другого пришлют?
— И то правда. А смотреть все ж противно.
— Научила вас рассуждать советская власть.
— Ах ты, недоносок вонючий! — вскочила распатланная Лещенкова, налапала в соломе платок, накинула на голову. — А тебя кто учил, черепаха лысая? Да как тебя баба в постели терпит, такую тлю поганую. А что он мне сделает! — придавила Лещенкова шикавших баб огнем потемневших в гневе глаз, зажала шпильки в зубах, закинула руки за голову. — Да придут наши, загремит в Соловки как миленький.
— Зря кричишь, Поликарпыч, — примирительно вмешался тоже заспанный Казанцев. Раич, староста, все приневоливал его исполнять бригадирские обязанности. Но Казанцев умело уходил в тень. Вперед выдвигал недалекого и лядащего Черногуза. — Коней нет. — Казанцев поправил картуз на голове, поглядел в отножину лога, где были пруды. — Хлопцы поехали поить и до се нет их.
Разбуженные Черногузом, деды и бабы поднимались неохотно, размеренно. Над жнитвом и некошеными хлебами — сухой жар. Усталость и лень в самом воздухе. Над обгоревшей балкой черной точкой распластался кобчик.
— У бога дней много. — Старик Воронов отыскал в соломе свой пиджак и на карачках пополз от солнца в тень.
— Где вас черт носит! Время не знаете! — накинулся Гришка на ребят, пригнавших коней и мокрых еще от купания. Безбровое бабье лицо Гришки смешно и грозно нахмурилось. — А то я скоро найду на вас управу.
Володька Лихарев, плотный, гибкий в талии, спрыгнул с коня, усмехаясь криво, тихо, чтобы не слышали женщины, шепнул:
— Тебя уже шашель тронула, дядя Гриша, а ты все в дудку растешь.
Гришка раскрыл рот от изумления, задавленно посипел, икнул, пуча глаза:
— Да я тебя, сука паршивая, в труху, и в землю положить нечего будет.
— Сучись, да не больно. — Володька перекинул через голову коня поводья, зажал в кулаке, посоветовал на ухо: — Почаще оглядывайся, гад! Так-то вот!
— Григорь Поликарпыч! — вмешался Казанцев. Он присел у лестницы, обернулся к Гришке. — Ты помоложе чуток. Помоги поставить. Отрухлявел, не влезу без лестницы на скирду.