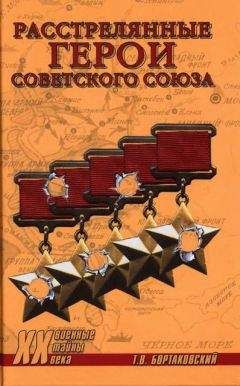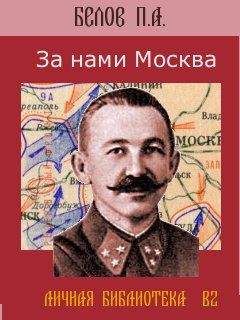Юрий Бондарев - Мгновения. Рассказы (сборник)
Эти несвязные видения не были законченными снами, это возникало как отблеск, когда мы глохли от разрывов снарядов, режущего визга осколков, автоматных очередей, когда ничего не существовало, кроме железного гула, скрежета ползущих на орудия немецких танков, раскаленных до фиолетового свечения стволов, потных лиц солдат, наводчика, приникшего к наглазнику панорамы, осиплых команд, горящей травы вблизи огневой.
Удаляясь, уходя из дома, мы упорно шли к нему. Чем ближе была Германия, тем ближе был дом, тем быстрее мы возвращались в прерванную войной юность.
Нам было тогда и по двадцать лет и по сорок одновременно.
За четыре года войны, каждый час чувствуя огненное дыхание смерти, молча проходя мимо свежих бугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в себе прежний мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их так подробно, так насыщенно, что хватило бы на жизнь двум поколениям.
Мы узнали, что мир и прочен и зыбок. Порой мы ненавидели солнце – оно обещало летную погоду и, значит, косяки пикирующих «юнкерсов». Мы узнали, что солнце может ласково согревать не только летом, но и поздней осенью, и в жесточайшие январские морозы, но вместе с тем равнодушно обнажать во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, тела убитых, которых еще вчера мы называли по имени. Мы узнавали мир вместе с человеческим подвигом и страданиями.
Кто из нас мог сказать раньше, что трава может быть аспидной и закручиваться спиралью от разрывов танковых снарядов? Кто мог представить, что когда-нибудь увидит на женственных ромашках, этих символах любви, капли крови твоего друга, убитого автоматной очередью?
Мы входили в разрушенные города, зияющие провалами окон и подъездов; поваленные фонари с разбитыми стеклами не освещали толпы гуляющих на израненных воронками тротуарах, и не было слышно смеха, не звучала музыка, не загорались огоньки папирос под обугленными тополями парков.
В Польше мы увидели гигантский лагерь уничтожения – Освенцим, фашистский комбинат смерти, день и ночь работавший с дьявольской пунктуальностью, окрест него весь воздух пахнул запахом человеческого пепла.
Мы узнали, что такое фашизм во всей его человеконенавистнической наготе. За четыре года войны мое поколение познало многое, но наше внутреннее зрение воспринимало только две краски: солнечно-белую и масляно-черную. Радужные цвета спектра отсутствовали.
Мы стреляли по черным крестам танков и бронетранспортеров, по черной свастике, по средневеково-черным готическим городам, превращенным в крепости.
Война была беспощадной и грубой школой, мы сидели не за партами, в аудиториях, и перед нами были не конспекты, а бронебойные снаряды и пулеметные гашетки. Мы еще не обладали жизненным опытом и вследствие этого не знали простых вещей, в будничной жизни, – мы не знали, в какой руке держать вилку, и забывали обыденные нормы поведения, мы скрывали нежность и доброту. Слова «книги», «настольная лампа», «благодарю вас», «простите, пожалуйста», «покой», «усталость» звучали для нас на незнакомом и несбыточном языке.
Но наш душевный опыт был переполнен до предела, мы могли плакать не от горя, а от ненависти и могли по-детски радоваться весеннему косяку журавлей, как никогда не радовались – ни до войны, ни после войны. Помню, в предгорьях Карпат первые треугольники журавлей появились в небе, протянулись в белых, как прозрачный дым, весенних разводах облаков над нашими окопами – и мы зачарованно смотрели угадывали их путь в Россию. Мы смотрели на них до тех пор, пока гитлеровцы из своих окопов не открыли автоматный огонь по этим косякам, трассирующие пули расстроили журавлиные цепочки, и мы в гневе открыли огонь по фашистским окопам.
Неиссякаемое чувство ненависти в наших душах было тем ожесточеннее, чем ранимее было ощущение юного и солнечного мира наших ожиданий – все это жило в нас, снилось нам. Это сообщало нам силы, рождало терпение. Это заставляло нас брать высоты, казавшиеся недоступными.
Наше поколение – те, что остались в живых, – вернулось с войны, сумев сохранить, в себе этот чистый, лучезарный мир, непреходящую веру в будущее, в молодость, в надежду. Но мы стали непримиримее к несправедливости, добрее к добру, наша совесть стала вторым сердцем. Ведь эта совесть была оплачена кровью. И вместе с тем четыре года войны мы сохраняли в душе естественный цвет неба, улыбку любимой женщины, мягкий блеск фонарей в сумерках и вечерний снегопад…
Война уже стала историей. Но так ли это?
Для меня ясно одно: главные участники истории – это Люди и Время. Не забывать Время – значит не забывать Людей, не забывать Людей – значит не забывать Время. Быть историчным – это быть современным. Количество дивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скрупулезной точностью подсчитывают историки. Да, они подсчитывают количество потерь, определяют вехи Времени. Но они не смогут подслушать разговор солдат в окопе перед атакой, увидеть слезы в глазах восемнадцатилетней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, вокруг которого прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулеметной очереди, убивающей жизнь.
В нашей крови пульсируют токи тех людей, что жили в Истории. Они не знали и не могли знать, что знаем мы, но они чувствовали то, что уже не чувствуем мы. При ежесекундном взгляде в лицо смерти все обострено, сконцентрировано в человеческой душе.
И вот этот фокус чувств чрезвычайно дорог мне.
Сталинград
В аккуратном чистеньком номере мюнхенской гостиницы мне не спалось. Фиолетовый сумрак декабрьской ночи просачивался сквозь залепленное снегом окно, вкрадчиво-дремотно пощелкивало в тишине электрическое отопление, а мне казалось, невероятным, что я нахожусь в немецком городе, откуда началось все: война, кровь, концлагеря, газовые камеры.
Я вдруг отчетливо вспомнил утренний разговор с мюнхенским издателем и стал просматривать газеты. И тотчас в глаза бросился крупный заголовок – «Сталинград», а под ним несколько фотографий: суровая сосредоточенность на лицах немецких солдат за пулеметом среди развалин города, танковая атака в снежной степи, молодцеватый автоматчик, расставив ноги в сапогах-раструбах, хозяином стоит на берегу Волги.
В статье выделялись давно знакомые имена и названия: Паулюс, Манштейн, Гитлер, группа армий «Дон», 6-я полевая армия.
И лишь тогда я понял, почему издатель попросил меня просмотреть эту газету.
Утром во время встречи с ним, узнав, что я интересуюсь материалами Второй мировой войны, издатель развернул передо мной газету, сказал: «Хотел бы, чтобы вы встретились с фельдмаршалом Манштейном. Да, он жив, ему восемьдесят лет… Но думаю, что он побоится разговора с вами. Солдатские газеты много пишут о нем в хвалебном тоне. Называют его стратегом и даже не побежденным на поле боя. Задайте ему несколько вопросов, чтобы старый пруссак понял, что он участник преступления. А, впрочем, сейчас…»
Издатель довольно решительно подошел к телефону и через справочную узнал номер фельдмаршала. Я хорошо слышал последующий разговор. Старческий голос в трубке надолго замолчал, как только издатель сказал, что господину фельдмаршалу хочет задать несколько вопросов русский писатель, занятый изучением материалов Второй мировой войны, в том числе, конечно, и Сталинградской операции.
Длилась томительная пауза, потом старческий голос не безудивления переспросил: «Русский писатель? О Сталинграде? – и опять после паузы, с пунктуальностью военного: – Какие именно изучает он вопросы?» Затем, после осторожного молчания: «Пусть изложит письменно вопросы». Затем, после длительной паузы: «Я все сказал в своей книге „Потерянные победы“. О себе и о Паулюсе». И наконец: «Нет-нет, я никак не могу встретиться, я простужен, господин издатель. У меня болит горло. Я плохо себя чувствую».
– Я так и думал, – сказал издатель, положив трубку. – У этих вояк всегда болит горло, когда надо серьезно отвечать.
В сущности, я не очень хотел бы этой встречи с восьмидесятилетним гитлеровским фельдмаршалом, ибо испытывал к нему то, что испытывал двадцать пять лет назад, когда стрелял по его танкам в незабытые дни 1942 года.
Но я понимал, почему фельдмаршал, этот «не побежденный на поле боя», опасался вопросов о Сталинградской операции…
Нет, я никогда не забуду морозы под Сталинградом, когда все сверкало, все скрипело, все металлически звенело: снег под валенками, под колесами орудий, толсто заиндевевшие ремни и портупеи на шинелях.
Наши лица в обмерзших подшлемниках покраснели от сухих метелей, от ледяных ветров, беспрестанно дующих из степи. Мы своим дыханием пытались согреть примерзавшие к оружию руки, но это не помогало. Потом мы научились согревать руки о горячие стреляные гильзы. Мы стреляли по танкам и лишь согревались в бою и хотели боя, потому что лежать в снегу в мелко выдолбленном окопе возле прокаленного непогодой орудия было невыносимо. Но в те яростно морозные дни мы ощущали в себе, чего не было в первый год войны.