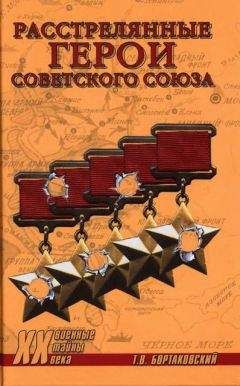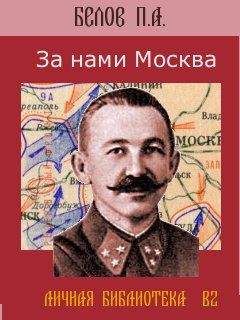Юрий Бондарев - Мгновения. Рассказы (сборник)
Не преисполнено ли гордыни и искусство в самонадеянном желании познать мгновения мгновений бытия, в надежде передать человеку опыт разума и чувства, и таким образом остаться бессмертным?
Но без этого убеждения нет идеи человека и нет искусства.
Имя этого судьи – правда
Вряд ли кто-нибудь из нас рискнет определить современную литературу как морализаторскую притчу или как очерковый комментарий к событиям дня, выдаваемый за философское осмысление жизни.
Нет, цель современного искусства – разумная организация сознания, внесение в мироустройство нравственного порядка, социальной концепции природы и человека.
Сегодня невозможно отгородиться от мира каменной стеной Древнего Китая с его смертельным запретом проникновения к чужой культуре. Поэтому едва ли сейчас на Европейском, Американском и Азиатском континентах можно найти абсолют обособленного, очищенного национального искусства. Человечество объединено единым земным шаром, он стал удивительно тесен, уменьшен невероятными скоростями новой науки.
Когда известный японский критик Кендзи Симицу говорит, что «современная культура импортируется главным образом из США…», когда в Канаде создается Союз писателей с главной целью воспрепятствовать импорту американской книжной продукции, когда французская интеллигенция сетует на засилье джазовой заокеанской музыки, когда крупнейшие итальянские режиссеры заявляют, что западное кино «волочит за спиной груз американского доллара», что они, американцы, «требуют, чтобы кино не пробуждало сознание, никуда не звало». Когда мы соприкасаемся с переводными американскими романами последнего времени, то бесспорно начинаем понимать: в мировой культуре что-то случилось (слово «что-то» я употребляю здесь, имея в виду роман Джозефа Хеллера), и понятий добра и зла не существует, а сам Вельзевул взмахами обожженных недавними войнами крыльев ставит на страницах книг печать оцивилизованной тоски, безрадостного пресыщения.
Главная проблема Запада – пропасть между духовными запросами человека и его материально-плотским существованием – рождает размытость жизнеспособной моральной доктрины.
Современные буржуазные социологи объясняют новые эрзац-чувства стальной поступью «индустриального общества», называя преступником века научно-технический прогресс, который раздавил человека машинами и вещами, опошлив и подменив его мысли либо хватательным инстинктом, либо рефлексом на физиологические удовольствия.
И в литературе возникают апокалипсические параболы, идеи тотальной судьбы, тусклый контур грядущего дня человечества на отравленной, выжженной и обезвоженной планете, и вырастают «границы между „я“ и „не-я“». Возникает отчуждение, ибо «истин на земле столько, сколько и людей». И потеряна нравственность, первоэлемент общественных установлений (благороднейший тормоз свинцовых инстинктов). На замену пришло судорожное развлечение, дьявольский знак бегства от самих себя, от одиночества в каменных лабиринтах городов, где целая индустрия лжеискусства пытается заполнить духовный вакуум в последние два десятилетия, превратив искусство, в прибыльную коммерцию. Поэтому не являются ли секс, наркотики, алкоголь беспомощными врачами душевного одиночества?
Стереотипный стандарт «массовой литературы» заменили индивидуальности талантов, и это преддверие искусства постиндустриального общества.
Мы знаем, что целые культуры рано или поздно исчерпывали свои возможности и погибали, как и внешне, казалось бы, всесильные цивилизации, погребенные песками пустыни.
Что ж, может быть, культура Европы прошла свой зенит и в течение последних двадцати лет неуклонно сползает к унылому закату, о чем еще в начале века писал Освальд Шпенглер? Или, может быть, эта буржуазная культура, задохнувшись в машинной цивилизации, утратила духовную силу, передав маршальский жезл социологическому репортажу и «массовым» романам, низкий художественный уровень которых размыл критерии? Синтетикой, излишеством вещей и алчностью опрокинут, погребен эстетический кумир, и европеизм, анемичный, постаревший, напоминает уже орла с восковыми крыльями – куда и сколько ему лететь?
Для того чтобы продолжать любить человека, современному художнику нужны прочные точки опоры.
Когда мы говорим о научно-технической революции развитого социалистического общества, о высокомеханизированной цивилизации XX века, мы, конечно же, думаем о науке как об импульсе прогресса, как о рычаге, поворачивающем индивида не к миру вещей, его поглощающих, а к духовному богатству для всех. Подчиняясь нравственным законам, человек должен осознать, что век электроники и кибернетики, господство машин – это не самоцель, не прогресс ради прогресса, а ступень исторической судьбы человечества, рубеж познания, через который ему суждено пройти.
Люди готовы обвинять технику, забывая о том, что техника подчинена людям, действительным виновникам убийства и самих себя. И здесь возникают проблемы социальные.
Теоретики постиндустриального общества утверждают, что научно-технический прогресс отменит идеологию, заменив ее наукой, то есть тезис «деидеологизации» отрицает социальное преобразование современной капиталистической структуры. Все эти антимарксистские теории напоминают многолетние и многошумные дискуссии о моноромане и центробежной и центростремительной прозе, об антиромане и романе-репортаже, о романе-информации и романе экзистенциалистском – во всех пен-клубовских диспутах недоставало «жизни как она есть» и не хватало надежды.
Оптимизм? Вера в добро? Вера в человека? Но оправдан ли эпохой этот оптимизм? Девятнадцатый век был временем критического реализма. Не заслуживает ли критики наш индустриальный век?
В советской литературе нет всемирного пессимизма, нет черного юмора, балаганного святотатства, ибо искусство наше подчинено этическому началу, где герой, как правило, делает выбор не ради эгоцентрического «я».
Советской литературе не присущи морализаторство и роль исправителя рода человеческого, на что претендовала Библия – эта самая известная книга мира, набор мифов, законоустановлений и советов, догматическое руководство к действию, нередко поражающее бесцеремонной непререкаемой властностью.
Завтрашний век, что уже не за семью печатями, признает и укрепит нашу литературу как «доктрину добра» – она пытается сказать о революционной эпохе на земле, о человеке этой эпохи, сказать не нечто, не что-то, а сказать все.
В поисках истины мы не были пленниками идеалистического иррационализма, разочаровывались в человеке и не были приверженцами асоциальных направлений.
Слово родилось прежде философии, политики, социологии и всех научных систем; слово родило идеи человечности, без которых искусство и литература, вырождаясь, превращаются в зеркало жалкого развлечения, отражая бытовые случаи на житейских перекрестках.
Шедевр в прозе появляется на свет, когда диктатура идей родственно соединяется с диктатурой образа.
О любой литературе не следует судить по ее среднему уровню, как судят об обществе социологи. То, что писал Толстой, по сравнению с латинской литературой иному интеллектуалу западного толка мнится тривиальным, но стоит ли спорить против «авангардизма наоборот»?
И хотя подчас сложно провести границу между великим и смешным, мы склонны говорить, что поверхностное искусство всегда претендует быть пряным и кокетливо-модным, в то время как подлинное искусство – это не изобразитель «личных впечатлений», а целый мир, воспринятый сквозь разум и чувства при постоянном присутствии Верховного судьи, приведенного к присяге. Имя этого судьи – правда.
Мое поколение
Когда прошли равнины Польши и приблизились к границе Чехословакии, полузабытый довоенный зеленый мир юности приблизился вдруг, стал сниться нам в глухие осенние ночи под мрачный скрип сосен, под стук пулеметных очередей на высотах. Тогда преследовали меня одни и те же сны – в них все было «когда-то»…
Просыпаясь в окопе, я чувствовал, как рассветным холодом несло с вершин Карпат, как холодела под туманом земля, исчерненная воронками. И, глядя на спящих возле орудий солдат, с усилием вспоминал сон: в траве знойно трещали кузнечики, парная июльская духота стояла в окутанном паутиной ельнике, потом с громом и с молниями обрушивалась лавина короткого дождя; затем – на сочно зазеленевшей поляне намокшая волейбольная сетка, синий дымок самоваров на даче под Москвой.
И как бы несовместимо с этим другой сон – крупный снег, неторопливо падающий вокруг фонарей в переулках Замоскворечья, мохнатый снег на воротнике у нее, имя которой я забыл, белеет на бровях, на ресницах, я вижу внимательно поднятое лицо; в руках у нас обоих коньки. Мы вернулись с катка. Мы стоим на углу, и я знаю: через несколько минут надо расстаться.