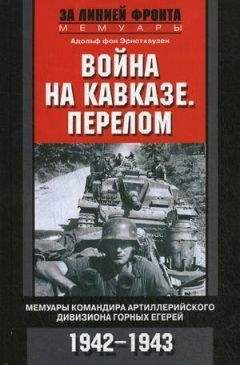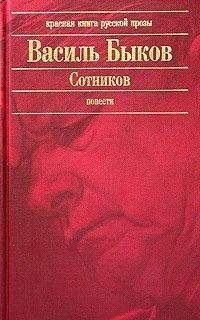Ян Щепанский - Мотылек
Он поднялся. Ноги от долгого сидения на корточках одеревенели. С волос на лоб и щеки стекали теплые струйки. Он задумчиво смотрел на лежащий в траве камень. Никто бы не догадался, что находится под ним. Но он уже не был доволен собой. Ему даже становилось как-то не по себе, и все сильнее, и тогда он повернулся и пустился бегом к дому. Остановился он у крыльца. Из-за дикого винограда раздавалось спокойное, шелестящее посапывание бабушки. Он постоял минуту в нерешительности, ему вдруг показалось, что он совсем один на свете. Что-то зашевелилось под ступеньками крыльца. Он заглянул туда. Во мраке, насыщенном затхлым запахом опилок и мокрого дерева, куры пережидали дождь. Нахохлившаяся наседка, склонив набок голову, подозрительно смотрела на него желтым глазом. Когда он вошел, они шарахнулись в разные стороны, наполнив шумом тесное помещение, и с кудахтаньем вылетели наружу, подняв облако пыли и пуха.
С бьющимся сердцем присел он на кучке опилок. Наверху заскрипел шезлонг, потом половицы. Он ждал того, что сейчас должно было произойти.
— Миха-ась! Миха-ась! Где ты?
Он позволил ей позвать себя еще раз и наконец ответил «здесь», выходя из укрытия.
Он стоял перед бабушкой на ступеньку ниже, стараясь не смотреть, как она заламывает толстые белые руки.
— Побойся бога, что ты выделываешь! Такой большой пятилетний мальчик, а ни на минуту нельзя тебя оставить без присмотра. На кого ты похож? Весь мокрый! Вот мама приедет, я ей расскажу, что ты не слушаешься и бегаешь под дождем. Иди сюда сейчас же.
Он видел, что дождь стихает, слышал из соседнего сада радостные крики детей. И знал, что не пойдет и не отодвинет плоский камень. Он покорно давал подталкивать себя к дверям. Но на пороге задержался.
— Бабушка, где живут мотыльки?
Она остановилась, застигнутая врасплох его вопросом.
— Нигде не живут, — начала она, но тут же потащила его за плечо в коридор. — Хитрости тебе не занимать, зубы мне не заговаривай. И не думай, что ты сразу же побежишь играть на «Эдельвейс». Сейчас я тебя вытру, переодену и дам выпить чего-нибудь горячего.
Он не ответил. Он покорно сносил строгие наскоки бабки. Ему совсем не хотелось идти на «Эдельвейс». С детьми из «Эдельвейса» у него уже не было ничего общего.
Когда, вытертый досуха и переодетый, он сидел за столом и ждал горячего молока, ему казалось, что он уже какой-то другой и что все приятные, смешные вещи, которые недавно так радовали его, перестали для него существовать.
Бабка быстро вошла в комнату, поставила перед ним молоко, видно было, что ей еще хочется поворчать, но, взглянув на него, она хмыкнула и только сказала: «Пей». Потом начала вертеться по комнате, поглядывая на него время от времени из-под нахмуренных бровей. Наконец остановилась у окна.
— Михась, — сказала она уже совсем спокойно. — Поди-ка посмотри, какая красивая радуга.
Он послушно подошел и молча посмотрел на радугу, которая была всего-навсего цветной полоской на небе.
Черный
Опавшие листья устилали аллеи парка. Они резко пахли чем-то горьким и кислым, особенно под вербами, у пруда. Много их плавало на воде. Они были похожи на маленькие золотистые лодочки. Холодный ветер неторопливо гнал их вместе с хлопьями осевшей сажи. Бесконечные флотилии проплывали мимо опор горбатого мостика из гнилых березовых бревен. Деревья стояли почти голые. На черных ветках судачили галки, поминутно взлетая в серое небо крикливыми стаями. Только дубы еще хранили темный багрянец и в редких лучах бледного солнца время от времени вспыхивали бессильным гневом.
Пани Эльза поминутно подзывала детей, поправляла им шарфики и ворчливо напоминала, чтобы они не ходили по лужам.
Над каменным рвом вольера для медведей стояло всего несколько человек. Звери метались по бетону у подножия искусственных скал. Они мягко переваливались с боку на бок и время от времени поднимали свои мотающиеся головы, косо поглядывая на белеющие вверху человеческие лица.
Еще недавно дети так любили мишек. Бегали наперегонки к железной ограде, с карманами, полными конфет и яблок. Сейчас они смотрели на них недоверчиво, со страхом в глазах, а маленькая Моника судорожно сжимала руку пани Эльзы. Они, правда, сами не видели несчастного случая, но в городе об этом рассказывали во всех подробностях, и заметка на эту тему появилась даже в газете. Можно было ясно представить себе, как это произошло, — так ясно, что Михал и Моника вспоминали о случившемся с ужасом очевидцев. Фокстерьер, падая, жалобно скулил и быстро перебирал лапками, а потом было слышно лишь урчание зверя, хруст ломаемых костей, чавканье и истерические крики хозяйки. Остался один окровавленный ошейник. Искушение погладить мишек пропало бесследно.
— Гадкий Шварц, — сказала Моника, — он самый плохой.
Черный зверь, косолапо ступая, подошел к стене, присел, показав коричневое брюхо, и начал попрошайничать, размахивая лапами. Нижняя губа у него отвисла мясистой петлей, влажный нос непрерывно двигался, а в маленьких желтых глазках мерцали красноватые искорки.
Его назвали Шварц, решив, что только немецкое имя может передать зловещую природу изверга.
— Пошел! — крикнул Михал, и топнул ногой.
— Он сюда не вспрыгнет? — забеспокоилась Моника.
— Ни в коем случае, — сказала пани Эльза.
— Ну, а если очень разозлится?
— Михась, почему ты дрожишь? — Пани Эльза окинула мальчика критическим взглядом. — Ну, конечно! Ботинки совершенно промокли. Я сто раз говорила: не ходи по лужам. Идем домой, — приказала она.
В прихожей пахло горелым. Дети с беспокойством нюхали воздух, покорно отдав себя в руки пани Эльзы, стягивавшей с них пальто и свитеры.
— Ничего особенного, — ворчала она. — Тряпка загорелась на кухне. Моника, куда ты бежишь? Надень туфли! Что за ребенок!
Девочка исчезла в глубине квартиры. Через минуту громкий плач наполнил все комнаты. У нее был резкий голос, и плакать она действительно умела. Михал и пани Зльза мигом пронеслись через столовую. Из открытых дверей детской комнаты валил дым.
— Макака, макака, макака, — кричала Моника. Она стояла возле печки в облаке серого дыма, размахивая большой плюшевой обезьяной, из которой валил дым, как из кадила.
— Я же говорила, чтобы ты не прятала ее за печку! — закричала пани Эльза. — Дай мне эту дрянь! — И она схватила обезьянку за ногу.
— Сами вы дрянь! — завопила Моника.
Из брюха макаки посыпались опилки. Пани Эльза энергично шлепнула Монику, и плач девочки перешел в яростный вой.
Пользуясь замешательством, Михал схватил игрушку и спрятался с ней в угол, за кроватью. Плюш на животе обезьянки продолжал тлеть, и темная дымящаяся рана неумолимо расширялась.
Пани Эльза подбежала к окну, распахнула его настежь. Потом крадучись приблизилась к Михалу.
— Дай макаку, ее надо потушить.
Моника ухватилась за юбку бонны.
— Не давай! Она ее выбросит!
Михал сел на обезьянку, прижимая обожженный мех к полу.
— Ах вы, сопляки! Сейчас я с вами расправлюсь.
— Что здесь происходит? Дети! Пани Эльза!
В дверях стояла мать. Она не успела снять меховую шубу, вбежав прямо из передней и только сейчас стягивая перчатки с узких рук.
— Почему вы держите их при открытом окне? Вот Михась уже кашляет.
Все трое наперебой стали рассказывать о случившемся. Моника обливалась горькими слезами, но каждый чувствовал облегчение. Даже макака перестала тлеть. За обедом об инциденте уже говорили в шутливом тоне. Отец, который пришел с работы усталый и молчаливый, улыбался, когда Моника рассказывала об операции «отросткообразного червячка», которую она сделает пострадавшей.
Моника умела громко реветь, но и быстро утешалась. Целый день она нянчила макаку. Постелила ей удобную постель в картонной коробке, делала уколы, ставила компрессы и пела колыбельную. Михал отводил глаза от потертой обезьянки с нашитой на животе белой заплаткой. Его преследовал запах паленого. Он старался не думать о том, что произошло, но печальный запах все время напоминал ему, что это он спрятал за печь старую добропорядочную макаку, такую хорошую, не причинившую никому зла. Он ходил по дому с тяжелым сердцем, отказался от полдника, сказав, что у него болит голова, так что в конце концов голова у него разболелась на самом деле. Он знал, что не сможет никуда деться ни от запаха, ни от пения Моники, ни от этой невыносимой тяжести в груди. Во всем доме он не нашел ни одной интересной вещи, которая могла бы его развлечь. Потому что такой вещи не было на свете. Он отчетливо это чувствовал. Для этого он должен перестать быть Михалом, должно никогда не быть ни макаки, ни осени, ни этого города с мокрым парком. Теперь все ушло и ничто не будет таким, как раньше.
По-прежнему лил дождь. По улице двигались блестящие черные зонты, а по стеклам текли маленькие струйки с капельками на конце. Наверху у соседей кто-то разучивал гаммы, вверх вниз, вверх вниз, без надежды на какую-нибудь перемену, с печальным смирением. Михал принялся рисовать уланов, но у всех у них получались одинаковые лица. Напрасно он дорисовывал им по-разному закрученные усы: лбы и носы создавали одинаковые остроугольные лесенки. Было серо, холодно и неуютно, и ничего не хотелось делать.