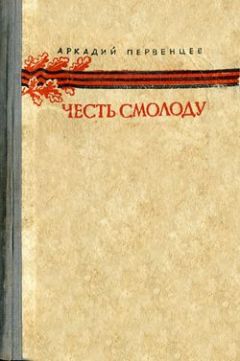Аркадий Первенцев - Над Кубанью. Книга первая
Меркул неодобрительно покачал головой.
— Фронтовика пороть надумали, — глухо произнес он. — Вот тебе и новый царь Лаврентий Корнилов. Свобода! От штанов свобода…
Шульгин прошел расступившуюся толпу, остановился возле лавки, угрюмо оглядел ее, снял бешмет и лег животом вниз, уткнув лицо в ладони.
Батурин, несколько смущенный такой неожиданной покорностью, развязал ему очкур и стянул шаровары к голенищам. Из Степанова кармана выпала ложка. Лука поднял ее, внимательно оглядел и опасливо переметнул взгляд на лежащего.
— Положи, — лапаешь, — не поднимая головы, сказал Шульгин, — не отскребешь потом коросту…
Этот тон, презрительный и уничтожающий, вывел Батурина из короткого смущения.
— Начинаем, — скомандовал он.
Дневальный выбрал лозу, поплевал на руки, потер ладони.
— Сколько? — спросил он, виновато глянув на людей.
— Двадцать пять, — поспешно ответил Лука и что-то шепнул подошедшему Ляпину. Тот понимающе кивнул головой, исчез. — Ну, начали.
— Стой! — крикнул кто-то из толпы.
Лука и тыждневой обернулись. К ним подходили группой фронтовики, сидевшие на батуринской линейке.
— По чьему веленью? — спросил Лучка, шевельнув раненой рукой в сторону распластанного Шульгина.
— По приговору станичного сбора, — недружелюбно буркнул Лука. — Ну, давай, что ж ты закис!
Казак взмахнул лозой. Прут свистнул и легко опустился, оставив на теле незначительную красную полоску.
— Давай хлеще! — заорал Лука.
— Можно хлеще, — подмигивая Лучке, произнес казак и также схитрил.
Фронтовики дружно засмеялись. Лука вскипел. Оттолкнул плечом казака, закричал:
— Ляпин, давай горячие!
Вахмистр появился с двумя кнутами. Приговоренный поднял голову.
— Кнутами нельзя, — тихо произнес он. — Не сметь кнутами. Нету казацкого обычаю кнутами.
— Лежи, не оборачивайся, — подвязывая веревки, успокоил Лука, — ничего ты не смыслишь. Кнут мягче. Начинай, Тимоха.
Ляпин замахнулся, и на спине, наискось через позвоночник, вспух кирпичный рубец.
— Вот это наказание, — вызывающе крикнул Лука.
Кнуты засвистали в воздухе. Лучка рванулся вперед, но его удержали друзья.
— Не кидайся с голой рукой, да еще с одной. Разом отдерут.
Люди молчали, наблюдая, как на их глазах подвергают позорному наказанию одностаничника. Суровые нравы казачьей вольницы, перешедшие в современность из глубины веков, приучили к покорному выполнению общественных приговоров, какие бы они ни были. Всякая непокорность каралась настолько решительными и беспощадными мерами и так осуждалась в самом быту и военном товариществе, что редко кто осмеливался поднять голос против подобного варварства. Сегодня наказывали Стапана Шульгина. Был ли он виновен перед товариществом? Безусловно нет. Большинство не чувствовало вины опрокинутого на посмешище и пытку казака, ведь слово, брошенное им, было доходчиво, близко и понятно, но никто не посмел вступиться за него, ибо это противоречило бы неписаным законам войска. А к другим законам, законам революции, казаки только-только подходили, ощупью, еще не зная их силы.
Меркул, увидев, что Ляпин направился с кнутами к месту порки, остановил его, крепко дернув за плечо.
— Кнутами нельзя.
— Можно, — Ляпин скривился, — чуть руку не оторвал, бирюк…
Яловничий кинулся к сборной и, растолкав народ, не пускавший его внутрь, подлетел к генералу. Гурдай опешил. Карташев схватился за кобуру.
— Как же так? — прокричал Меркул. — Обычай нарушают…
— Какой обычай?
— Кнутами Степку Лютого порют… Цыганскую наказанию придумали.
Гурдай приподнял плечи.
— Иван Леонтьевич, что там у вас?
— Сейчас выясним, — отмахнулся Велигура и, зацепив Меркула за рукав, торопливо зашагал из сборной.
Степана уже отвязали. Он, хмуро поглядывая, пил из ведра воду, клацая по железу зубами и обливаясь. Кнутов не было. Батурин со смиренным видом укладывал один к одному дымчатые скользские прутья.
Атаман подозвал Луку, и они все трое направились к правлению.
— Завсегда какую-нибудь хреновину придумаешь, — ругался Велигура, — ничего утаить не можешь, все хвалишься.
— Чего вы, Иван Леонтьевич? — удивлялся Лука. — Вы думаете, как Батурины с форштадту, так над ними можно как хотишь куражиться. У меня сам генерал родыч.
— Вот я тебя к нему и веду.
Батурин потер усы, крякнул.
— Может, сами вырешим, а? Иван Леонтьевич?
— Нет, уже потопаем к родычу.
— Чем пороли, кнутами? — строго спросил Гурдай.
Лука покашлял, заметил выжидающие лица выборных, настроенных, как видно, за него.
— При порке я сам не был, — сказал Батурин, — знаю, что в руках лозину держали. Старики ухмыльнулись в бороды. Лука умело вывернулся. Кнут-то цепляется за лозину, и сказанное стариком не противоречило действительности. Атаман отдела отпустил Батурина и как-то сразу потухшего Меркула.
— Нельзя так, — сердито сказал он Велигуре, оставшись наедине, — дикость, варварство. Поскольку не принято наказывать кнутами, и это порождает недовольство, следует применять прутья.
— Тут и лозой нажаришь — крику не оберешься, — жаловался Велигура, довольный снисходительностью начальства. — Им лишь бы шуметь, ваше превосходительство. Как же свободы наелись!
Лука помыл у колодца руки. Вытираясь полой бешмета, подозвал Меркула.
— Что же ты, черт рыжий, — укорил он, — бороду свою конфузишь, за всякую шантрапу в заступу идешь! А еще казак, старик! А то разом яловник разберем. Что делать будешь? Перепелом своим навдак[2] прохарчишься.
Шульгин, покачиваясь, направлялся к воротам. Его сопровождали друзья, нарочито перекидываясь веселыми шутками. Из дому за Шульгиным пригнали мажару. Отец, Кузьма Шульгин, хлопотливо усаживал сына на солому. Тот отстранялся, и когда жена, не выдержав, заголосила, он сердито оборвал ее:
— Перестань, не надо! Пусть, пусть!.. Не долго ждать. Скоро начнем кой-кому ноги целиком выдирать.
Лучка шептал опечаленному Кузьме Шульгину, — Ничего, папаня, за битого двух небитых дают, да и то не берут. Злей будет, а то все ложками занимался. Тоже занятию нашел.
Поодаль на тачанку, покрытую розовым персидским ковром, усаживался Гурдай. В упряжи нетерпеливо бились общественные племенные жеребцы, сдерживаемые кучером на тугих плетеных вожжах.
— А ко мне когда — почтение оказать? — спросил Лука, приподнявшись на подножку.
— Не следовало бы. Проказничаешь.
— Лучшего хотел, для примеру. Так когда ожидать позволите, печи растапливать?
Гурдай мельком оглядел его. В этом взгляде было какое-то новое и доброжелательное любопытство, не ускользнувшее от Луки. Генерал трудно переживал приближавшуюся свою старость, а тут он видел, на примере Батурина, что ему-то, Гурдаю, до старости далеко. Лука постарше его, а крепок, и жесткий чубчик, вспотевший от ожидания гнева или милости, только-только тронут сединой. И генерал, подумав еще о чем-то своем, смягчил свой вначале суровый взгляд, и улыбка чуть-чуть тронула его мясистые влажные губы. Батурин понял и этот смягченный взгляд и улыбку генерала, как добрый признак, и сам в свою очередь широко осклабился и даже как-то потянулся всем своим кряжистым телом к генералу. А тот, продолжая свою думу, приподнял брови и уже без улыбки сказал:
— Ишь какой ты!
— Какой? — испугался Лука, ожидая новой неприятности.
— Моложав. Ведь лет на девять меня старше, а зубы целы, ни один волос не упал, да и седины нет. — Притянул к себе. — Пшеничку продал?
— А как же. Я знаю: казаков на фронтах надо кормить. Греку ссыпал, зерно в зерно. Фунт чаю китайского мне в премию прислал. А что такое, ваше превосходительство? — живо заинтересовался Лука столь неожиданным поворотом разговора.
— Посоветую… Чтобы в надежное место, понял? А то, вероятно, в кубышку прячешь?
— Где там в кубышку, ваше превосходительство…
— Акции надо покупать, надежные бумаги, растущие процентные бумаги: акции, — хрипнул генерал на ухо. — Пользуйся случаем, Лука Дмитриевич: акции сахарных заводов.
— Где ж их взять?
— Привезу.
— Пожалуете?
— Завтра к обеду.
Генерал ткнул пальцем в спину кучера. Жеребцы рванули с места так, что Лука еле успел отскочить от тачанки. За тачанкой Гурдая катили свита и званные к атаманскому столу гости.
ГЛАВА XII
Ивга побежала ребятам навстречу, схватила брата за руку и, смеясь потащила, лукаво поглядывая на Мишу.
— Заждались, — корила она, — мама сама вас выглядывала.
Петя повел друга парадным входом, которым пользовались в редких случаях. Ивга пошла через калитку, памятную Мише. Провожая девочку из школы, он часто задерживался под широким навесом. Они учились вместе, и Миша почему-то всегда забывал заданное в школе. Он раскрывал книгу, и девочка старательно отмечала крестиками уроки. Миша близко ощущал ее дыхание, худенький локоть, и готов был надолго продлить эту тихую волнующую близость.