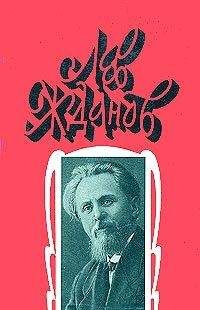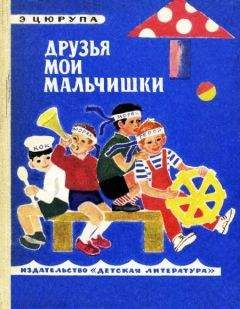Илья Чернев - Семейщина
Весело насвистывая, Никишка разводит костер, ставит на огонь чугунок с водою: сейчас он напьется чаю. Работай с ним Грунька, не пришлось бы ему возиться. Она всегда кашеварила, поила, кормила его. Теперь доводится все делать самому: полтора уж месяца, как Грунька сдала свою смену другому… родила… отдыхает… Эх, и славный родился у них наследник Петрунька!
Сегодня так легко на сердце, так ласково, совсем по-летнему, светит солнце, а главное, так много и хорошо работал он, Никишка, ночью.
Ночь действительно была необычайная. Теперь-то что — снова налито силой тело после крепкого сна, снова паши хоть десять часов подряд! А тогда, ночью, голова висла набок, нос норовил клюнуть в баранку. И темная же была ночь! Пришлось пахать наугад. Фары вырубали во тьме узенькую тусклую световую дорожку — с борозды как будто не собьешься, но все же… наугад, а нужно настоящее качество! Пригнувшись вбок, он следил, ровно ли идет земля из-под плугов, не чудит ли машина в борозде, не остаются ли огрехи. Это было утомительно, пот заливал глаза, фонарик позади трактора давал так мало света, что приходилось все время напрягать глаза. Неопытной прицепщице он не доверял… Толстые слои суглинка, медленно переворачиваясь, казалось лились спокойной, ровной рекой, и конца-краю ей не было. У него начинало рябить в глазах, он припадал головою на руль и на самую короткую минуту погружался в сон… Девушка окликала его с прицепа…
«Да, трудная была ночь, что и говорить!» — горделиво подумал Никишка.
Малолетком ездил он, бывало, с отцом на покос, его заставляли изредка помогать взрослым. Из самолюбия, из упрямства, боясь насмешек, он махал тяжелой литовкой от восхода солнца до звезд, не хотел отставать от других. От этого ныла потом спина, шея, горели в красных волдырях руки, — маета была, не работа!
— Вот так же и нынче было, как на покосе, — вслух произнес Никишка.
Ранним утром, сдав трактор сменщику, он пробежался по вспаханному клину и при неверном свете едва занявшегося дня удостоверился, что качество его пахоты — что надо…
Вода в чугунке начинала вскипать. Под бугром чуть слышно, но безостановочно тарахтит трактор. Андрюха, видно, торопится до смены напахать как можно больше. «Дай бог половину моего…» — усмехнулся Никишка.
— Однако пора и чаевать, — сказал он и, подхватив чугунок, пошел к вагончику…
Никишка неделями не появлялся в деревне: у трактористов сейчас самая горячая пора — зяблевая пахота. Время от времени из дому приходила с харчами Грунька. Она приносила в холщовом засаленном мешке туес сметаны, туес масла, кусок сала, два-три каравая ржаного хлеба, калачи, перья зеленого лука… Любовно собирала харч на пашню Ахимья Ивановна, всего клала вдоволь.
— Богатая пища, — развязывая мешок, улыбался Никишка, он вытаскивал стегнышко вяленого мяса. — Добро! Станем счас суп варить… А табаку в кооперации взяла?
Грунька молча протягивала ему пачку махорки.
— Только всего?
Тогда Грунька расстегивала на груди кофту, и в подол к ней падали одна за другою тугие желтые пачки.
— Пошто же всё? — деланно обижалась она. — У, табакур греховодный!
— То-то, я смотрю, у тебя в этих местах подсыпало будто… Оба смеялись молодо и счастливо.
— Ну, как там Петрунька, орет? — спрашивал Никишка.
— Горластый… орет, что ему, — отвечала она. — Батьку кличет…
— Ничего, подождет…
В эти минуты Никишка был особенно доволен женою: сына ему растит и… как заговорщически хранит она его тайну от домашних, как умеет прятать запретное махорочное зелье в казенке под самым батькиным носом.
Никишка всячески старался оттянуть неизбежную неприятную минуту: ведь он же должен в конце концов тайное сделать явным, он же взрослый, женатый человек, передовой тракторист. Что из того, что ему немного еще лет, — все равно, он на своих ногах, управляет изумительной машиной, на лучшем счету в МТС. А кто больше всех трудодней в дом приносит? Он, Никишка! Он — главный кормилец семьи.
«Попробовал бы батька к трактору сунуться, — думал порою Никишка, — что бы с того получилось? Друг дружку перепужались бы… А туда же насчет табака… учить!»
В дни пополнения запасов Никишка работал особенно усердно и споро. Что ему, кисет туго набит, когда захочется — закуривай, еды вдоволь: режь сало, мясо в котелке плавает… А тут еще тугнуйское солнце, не жгучее, а только ласковое, будто обнимающее теплыми и светлыми руками и эту необъятную степь, и его, тракториста, весь этот дивный мир. Рядом любимая Грунька, курносенькая, с живыми, небесного цвета глазами…
Однако не часто прибегала к нему Грунька и не всегда улыбалось солнце. Случалось, из-за сопок вырывался холодный ветер, скучные тучи задергивали небо, яркие краски степи разом тускнели. Тугнуй серел, хмурился, будто совестно становилось ему в одиночку, когда в серой хмаре спряталось солнце, сиять красотою своих трав… Начиналось ненастье. За сеткой сплошного нудного дождя пропадали сопки, дальние заимки… Накинув на голову распоротый мешок, Андрюха прибегал от замолкшего трактора.
— Земля плывет… грязь… — оправдывался он.
— Буксует? — спрашивал Никишка.
— По увалу, в гору буксует. Никак не мог привести.
— Ну, переждем.
И Никишка шлепал по взмокшей пахоте к трактору, вел его к вагончику, укрывал от дождя кулями.
В этом был особенный форс: ничего не говорить и подвести машину к вагону, на бугорок, утереть сменщику нос. Вот, дескать, как настоящие трактористы работают! Андрюха конфузился, бормотал что-то…
Потом Андрюха предлагал свои услуги: он сбегает и деревню, принесет поллитровку, а может, и целый литр. Денег, конечно, нет, — «и когда в мэтезсе выдадут за экономию горючего, постоянно эти задержки!» — но ничего, он достанет у товарищей.
Никишка милостиво соглашался. Делать все равно нечего, домой не хочется, да и трактор не бросишь, надоест же в вагоне валяться целые сутки. Сейчас он не прочь выпить. Выпьешь, веселее станет, — будто и нет ненастья, этих тягучих часов.
Вонзив блестящие стальные шпоры в рыхлый, напоенный влагой суглинок, трактор стоит подле вагона, неподвижный, закутанный, мокрый. Тревожиться не о чем. Никишка по опыту знает — непогода надолго.
— Сыпь! — напутствовал он сменщика. — Да поживей возвращайся!
Никишка заваливался на скрипучие нары, натягивал поверх себя тулуп, но в вагончике и без того тепло от железной печки, — вон как порозовел ее тонкий бок.
Никишка глядит из-под тулупа на красное яблоко зардевшейся печки, прислушивается, как потрескивают дрова и чуть гудит в трубе. Ему жарко, слипаются глаза, тянет ко сну. По крыше вагончика барабанит назойливый дождь… Он повертывается лицом к стенке и начинает мечтать… задумчиво чертит надломленным ногтем по слоистому дереву стены, и воображение развертывает перед ним картины охоты на Кожуртском озере: эх, хорошо бы сейчас погоняться за утками с дробовиком! Вот он перешел бы эту речку и притаился в кустах на той стороне озера, — палец обводит темное пятно сучка и замирает на верхней его обочине… На Кожурте всегда много уток. И время прошло бы незаметно, и вкусная дичина попала бы в чугунок… Но ружье осталось дома, висит в горнице над кроватью, на рогах гурана.
«Следующий раз непременно взять надо», — решает Никишка. Он даже удивлен: почему до сих пор не догадался сделать этого? Не оттого ли, что трактор заполонил его душу? Он будто оправдывается перед кем-то: «Время горячее, заработки завлекали, о дробовике ли думать?» Но заработки — заработками, а первенство — это особая статья. Разве он согласится отдать кому бы то ни было свое третье место в МТС!
Палец вновь медленно ползет по кружку сучка, но теперь это уже не озеро, а большая поляна, и на ней длинным рядом стоят мастерские и гаражи родной МТС.
Наплывом идут одна за другой картины прошлого. Давно ли, кажется, был он на тракторных курсах. Мучился… мучился-то как, а теперь трактор для него не загадка, а душа открытая. Сколько уж раз бывал он на зимнем ремонте. Он издали, по стуку мотора, умеет определять, правильно ли работает машина, нет ли каких неисправностей.
— Как свои пять… — шепчет Никишка. — Будто свое сердце слушаю. Будто бы уж и скучно становится, до того все известно…
Но вот в вагон неслышными шагами вошла Грунька. Платье ее исходит паром, за плечами мешок. Она тихо склонилась над мужем.
— Ты что там ворожишь? — ласково спросила она. Никишка круто повернулся к ней, крепко обнял, на лице его широкая лучезарная улыбка, а глаза совсем утонули в узких щелках. Неожиданно для Груньки, а может, и для самого себя, он произнес:
— Давай уедем в город, Груня! Я теперь к любой машине могу… Воронко-то вроде прискучил, вдоль и поперек его знаю.
На розовом лице Груньки крайнее удивление: