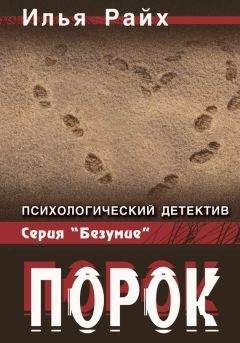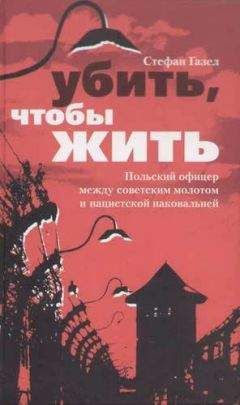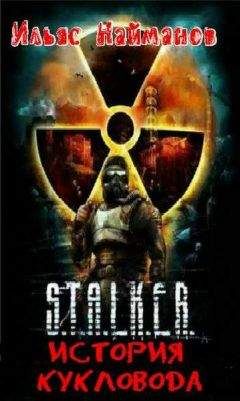Максим Бутченко - Три часа без войны
Собеседник тихо и многозначительно хмыкнул:
— Да, может быть.
А потом глубоко вздохнул, бросил докуренную сигарету, смачно сплюнул куда-то в темноту, растер дымящийся окурок ногой и легонько стукнул Кизименко по плечу.
— Ну что, товарищ лейтенант, добро пожаловать. И кстати, село Метрада мы называем между собой «Метр Ада», — обыденно проговорил пограничник и выключил фонарь.
Глава 10
Пётр Никитич запел. Нестройным голосом, отчаянно фальшивя и поднимаясь до фальцета, а потом вдруг рухнув в глубокий бас. Дед складывал звуки в непонятный мотив, иногда срывался на высокие ноты. Он пел тихо. Его слышали только соседи по камере. Слов в песне не было, как не было и смысла — только один поток, словно вода из крана. Старик сидел на нарах, опершись на стойку, скрестив руки на груди и издавая гудение, переливы — то, что вырывалось из души без оцифровки и сглаживания. Так продолжалось пару минут.
— Дед, запарил, хорош. И так кошки скребутся, а ты еще подвываешь, — пробурчал Лёха.
— А что тебе не нравится, сынок? Я пою так. Может, это песня тоски или романтики, — отбился Никитич.
— Тоскуй, как выйдешь отсюда, романтик хренов, — продолжал нападать молодой сиделец.
— Выйду, а ты тут останешься, — вдруг выдал старик, посмотрел на оппонента и заговорщически подмигнул.
Лёху покоробило. «Какой-то странный старикан. Может, колдун. Тогда мысли прочел, не мог же он угадать. Откуда кровавое пятно у него на пиджаке? Да еще такое большое, расплылось, словно он быка зарезал. Может, принес кого в жертву, и его схватили на месте преступления? От бабки своей убежал. Где он шатался?» Вопросов набралось немало, и каждое новое предположение повергало Лёху в дрожь.
«Играет роль простачка, а на самом деле может быть агентом СБУ. Или еще хуже — ФСБ. Да они с Ильей подставные. Чего они хотят? Разве я им мало дал? Зачем они опять проверяют меня? Я же сказал, что ничего не буду больше говорить, ни для кого не буду ничего делать. Мне важно только выйти отсюда, а на остальное плевать с третьего этажа», — думал он.
Во время Лёхиных размышлений загадочный дед хмыкнул, почесал одну руку, потом другую, затем бок, второй.
— Дед, у тебя шо, блохи? — не выдержал раздраженный житель села Пески.
— Шо, какие лохи? — включил дурачка дедушка.
— Блохи, дед, блохи! — не понял шутки-юмора Лёха.
— Плохи, да, плохи, — закивал головой Никитич, а сам второй раз иронично подмигнул Илье, наблюдавшему за сценой.
— Да ты издеваешься, козлина, — вскочил Лёха.
А дед внезапно скривил лицо, зажал руки возле паха, залепетал типа «ой-ой-ой» и ретировался в сторону параши, по-старчески шурша ногами и постанывая во время своего смелого отступления.
Эта картина — старик, бегущий с места сражения, — вызвала у Лёхи улыбку.
— Да пошел ты, старый хрыч, — полетело в сторону Никитича.
А тот, казалось, сделал вид, что на минуту оглох, пропустил все фразы в свой адрес мимо ушей. Через тридцать секунд компания снова была в сборе.
— Главное свое дело я сделал, можно сказать, что миссия завершилась успешно, — отчитался старик после похода к параше и стал придирчиво поправлять пиджак, пытаясь разгладить помятую ткань.
— А скажи, дедуля, что ты натворил, почему тебя упекли сюда? — не унимался Лёха.
— Я? Да я тавой, ничего, тавой, — залепетал старец.
— То, что ты тавой, я понял давно. Так что ты сделал? — не отставал шахтер.
— Ну, понимаешь, долго рассказывать. Бабка. Кролики. Хозяйство… — невпопад перечислял дед.
Видя, что пожилой узник не хочет говорить на неприятную для него тему, всем своим видом показывая, как тяжело ему выдавливать из себя слова, неожиданно за Никитича заступился Илья.
— Че ты пристал к старику? Что он тебе плохого сделал? — процедил он.
Лёха перевел взгляд с деда на Илью. Если бы у людей была способность пожирать глазами, от врага давно бы остались одни кости.
— Мне-то ничего, а какова хрена ты вообще здесь делаешь? — накинулся на него молодой сокамерник.
Оба привстали с нар, уперлись друг в друга взглядами, как два барана рогами.
— Я перед тобой, блин, не обязан отчитываться, — проявил обычную для себя твердость Илья.
Оппонент молчал, обдумывал дальнейшие действия.
— Ну, вот скажи, почему ты в Украине оказался? Кто тебя послал? — допытывался Лёха.
— Я тебя щас пошлю — и всего-то делов, — усилил агрессивное наступление Кизименко.
— Ну, пошлешь, да, да, — пространно протянул житель Донбасса, а потом отвернулся и погрузился в свои мысли.
Молчание раздало карты на троих заключенных, и неизвестно, кому в этот раз выпал джокер.
— Знаешь, я ведь тоже встречал русских, когда воевал. Они не такие, как ты, — заметил Лёха.
— Ну и?… — последовал вопрос.
— Что «ну и…»? Эти люди приехали на Донбасс, чтобы защитить нас от хунты. И пусть укропы говорят, что они наемники, но я знаю, что приехали не из-за денег, — продолжил он.
— А ради чего? — поинтересовался петербуржец.
— Ради чего? — переспросил Лёха. — Да ради справедливости!
Илья подумал, что неплохо было бы узнать, с кем именно общался его сокамерник, ведь наверняка речь идет о выходцах из правого движения.
— А ты за кого воевал? — обратился он к заключенному.
Тот скривил недовольную мину, а потом процедил:
— Я воевал за правду, — последовал ответ.
Последние слова раздразнили Кизименко.
— Это понятно, правдолюбивый ты наш. На какой стороне воевал? — усложнил экзекуцию он.
— А я и не скрываю, — с напором ответил Лёха, — за ополчение, сук украинских убивал.
Тут встрепенулся дед. До этого он пространно витал в своих старческих облаках, приземлялся на неведомые планеты своей молодости, когда жизнь казалась дорóгой к дальней линии степного горизонта, к которому идешь, а она не приближается. Но, увы. Теперь он пожилой человек с морщинистыми щеками, седой головой, да к тому же пребывающий в СИЗО в обществе двух странных типов. Старик вернулся в свое бренное тело, услышав последнюю фразу, и внезапно завопил:
— Молчать! Я сказал молчать!
Такого поворота не ожидал никто. От удивления Лёха открыл рот и уставился на деда. Илья, сжавший кулаки и готовый ударить в лицо оппонента, опустил руки.
— Тихо всем, — повторно протрубил Пётр Никитич.
Он вскочил на ноги, стал между двумя сокамерниками, смотрел на них, тяжело дыша.
— Дед, ты шо, сказывся? — пробормотал Лёха.
— Да, дед, че ты вопишь? — подключился Илья к претензиям в адрес старика.
Наконец-то между двумя врагами нашелся компромисс.
— Я, я, я… — заякал Никитич и вдруг обмяк, как тряпичная кукла: ноги подкосились, тело расслабилось, будто его ударило электрическим током, а потом вдруг напряжение перестали подавать. Он присел, тяжело дыша. Молодые люди с сочувствием смотрели на дедушку. А на него словно обрушился целый ком воспоминаний из прошлого, придавивших настоящее.
Некоторое время все напряженно молчали. А потом вдруг старец заговорил тихим, спокойным голосом, таким прозрачным и мелодичным, что по коже Лёхи побежали мурашки. «Мерзко тут, — подумал он от повеявшего на него холода. — Колдует опять дед». Подозрительно посмотрел на старика. Еще сильнее похолодало. Вид бывшего конторского служащего был чрезвычайно жалок. Полы пиджака, смятые по краям, безвольно свисали, как старая тряпка. Седая, почти белая борода слиплась в толстые косы, придавая Никитичу инопланетный вид. На голове торчал ворох волос. Губы дрожали, глаза бегали.
— Ух, ребята, вы себе не представляете, с чем мне пришлось столкнуться, — пробормотал он и через секунду начал свой рассказ.
День побега был назначен на среду. Почему именно среда? На этот вопрос дед внятно не мог ответить даже себе. В своей жизни он всегда пользовался знаками, а три — третий день недели — символ полноты. Чем не знак? За месяц до побега Никитич готовил теплые вещи, хотя на дворе стояло жаркое и потное лето. Насыщенно-голубое небо, до безобразия чистые облака проплывали свежевыкрашенной белой краской. Ветер легонько ласкал деревья, нежно прикасался к их ветвям и листьям, как будто в бесконечной прелюдии. Из-за этого громадные исполины-тополя подрагивали в экстазе и томной неге, слегка наклоняя упругие стволы. Эта идиллия летнего дня не сбила Петра с толку. Он полез на чердак, а там уже был спрятан рюкзак с необходимыми на первое время вещами — теплыми носками, шапкой, легким плащом, ботинками, даже парой модных, в разноцветную полоску, растянутых до колен трусов: ну и ничего, что не новые, главное — выстиранные. Да, Мария о нем заботилась. Нянчилась, словно с сыном. Скажи он ей, мол, «Мать, собери меня, в поход схожу», — побурчала бы немного: «Куда ты, старый валенок? Возьми хоть веник, за собой будешь подметать. Глянь, песок сыпется». Но все равно бы собрала сумку и перекрестила его три раза, да смахнула с глаза внезапно накатившую слезу. Женская забота не знает логики, не отвечает на вопрос «Почему?», а вопрошает в первую очередь: «Кому?» Никитич взял носки со стула на чердаке, аккуратно отутюженные женой, хотел было положить их в рюкзак, и вдруг застыл, точно окоченел. Тяжело вздохнул, присел. Стал вертеть в руках потертые, но без дыр носки коричневого цвета.