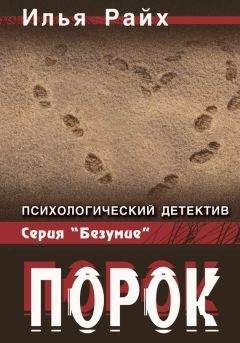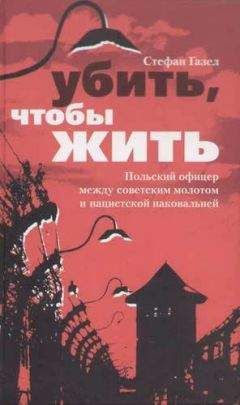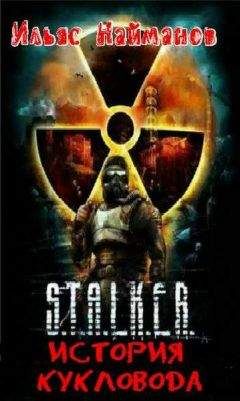Максим Бутченко - Три часа без войны
— Эх, Маруся, не вини ты меня, — внезапно заговорил он с женой, хотя на чердаке, кроме него, никого не было. — Вот не могу тебе описать, почему не нахожу себе места. Ты хорошая женщина, куховаришь, работаешь. Знаю тебя сто лет. Но нет мне пристанища. Я ведь пытался и делом заняться — кролей этих чертовых завел. Ты думаешь, я люблю их? Фиг там! Мне безразличны они, мохнатые комочки, твари бездушные. Просто я делал так, как у людей. К тебе приходил, помнишь, когда мы познакомились, вечерами. Засватал. Свадьба. Первый ребенок. На работу пошел. В этот долбаный отдел статистики. Я ведь, Маша, цифры ненавижу. Понимаешь, терпеть не могу эти закорючки. Ты хвасталась девкам, что у твоего мужа — пятерка по математике, курсы бухгалтера, потом контора на шахте. Как у него получается так хорошо? А я только скрипел зубами. Искал в цифрах смысл, ибо нет смысла в словах. Мы выпускаем буквы изо рта, складываем предложения в неиссякаемый поток, а о чем мы говорим? «Когда зарплата? Что нужно купить — овес или пшеницу? Сколько картошки уродило в нынешнем году?» Не зря ведь Бог дал нам способность понимать друг друга, но говорим ли мы? Какая ценность наших слов? Никчемная, копеечная. Мы жили не так. Не о том молчали. Не для того думали. Просыпались утром не для того. Не так должно быть. Угождали людям каждый год. «Забор не покрашен, доска прохудилась. Петя, быстрей сделай: соседи засмеют». Не для себя мы жили, а ради соседей. Не наша это была жизнь, а чужая. Эх, Маша, родная моя, любимая Машенька, я так привык видеть твое старческое лицо. Глаза. Они до сих пор полны синевы, как река. Мне много раз хотелось сказать тебе о своих планах, но я молчал, дурень. Боялся: ты не поймешь. Упечешь меня в дурдом. Скажешь, что сбрендил старый и никчемный. Не хотел тебя обидеть, не хотел, чтобы ты посчитала, будто якобы виновата в чем-то. Ни в чем, моя единственная, ты не виновата. Я. Я. Я. Только я один виноват: не прожил жизнь, как хотел. Слушал людишек, преклонялся перед ними. Они — мой бог и истукан. Прости, Машенька. Даже сейчас страшусь говорить тебе эти ужасные слова: ухожу я от тебя. Не знаю, куда ухожу. Может, не вернусь уже живым. Не поминай меня лихом. Только сейчас, когда прошло столько лет, могу сказать, что люблю тебя. По-настоящему. Всем своим больным сердцем. Прощай, Маша, прощай, — на трагической нотке дрожащим голосом закончил свой монолог Пётр Никитич.
Тонкая паутина расплеталась в диковинный узор в углу чердака. Мутный, грязный свет падал из окна на пол, рисуя прямые углы, преломленные стеклом. Пыль скопилась тонким слоем. Иногда, делая шаг, можно было увидеть, как след на полу остается на долгие годы. Вон следы, пять лет назад оставленные. А вот свежие — всего пару лет. Большой набитый вещами рюкзак стоял у потертого деревянного табурета, с которого давно облезла краска, как кожа со змеи. И вот этот табурет стоял как торжество бесцветности над ненужностью окраса. От кого теперь ему прятаться? Мир — это три метра пыли и прямоугольного света.
Посреди чердака сидел, нет, врос, как дерево в кровлю дома, старый человек. Он наклонил свою голову так низко, что борода почти касалась пола. Его руки зачем-то вцепились в носки, словно он держал последние знаки и символы жизни, от которых так долго хотел уйти. Тело деда содрогалось в волнах судорог, накатывающихся совсем не от физической боли. Его мускулы сотрясались от страдания душевного. Что есть плотские раны, которые заживают, как на собаке, по сравнению с израненным, исполосованным духом человека?
Старик рыдал, как смертельно раненный зверь, иногда судорожно подвывая, стонал, рычал от собственного бессилия. Дед прощался со своим домом перед долгим путешествием.
Глава 11
Ровно в 12 часов летнего дня Пётр Никитич закрыл калитку. Но перед этим оглянулся и осмотрел часть двора, разрезанную пополам плоскостью приоткрытой двери. Вот небольшая низкая пристройка к дому, заменяющая прихожую. В ней, на деревянном старом бежевом столе, доставшемся еще от бабушки, стоит газовая печь. От нее тянется тонкая черная кишка шланга к красному пузатому газовому баллону. По двору бегает курица Масяня, прозванная так женой за неуемный характер и жажду познания, — она всегда каким-то образом вылезала из заграждения, чтобы исследовать мир. Вот собачья будка, обитая на крыше кусками грубой дранки табачного цвета и шершавого шифера. Беспородный пес Косой спрятался от летней жары в тень, высунув только алый язык, как флаг из крепости.
— Вот назвал псину, курам на смех! Какой же он косой? Довольно-таки прямой, — частенько упрекала Мария деда.
В ответ Пётр довольно кхекал, мурчал себе под нос, что собака полюбила эту кличку и на другие отзываться не хочет. Маша осуждающе качала головой, мол, что с тобой разговаривать, упертый, как баран. А потом уходила на кухню, где пригорало жаркое, и снисходительно улыбалась, представляя морду пса, который, по правде говоря, действительно чуть косил влево. Именно из-за этого он всегда словно язвительно ухмылялся в левую сторону, что часто вызывало смех у гостей, зашедших к ним на огонек.
Пётр Никитич осматривал двор и вспоминал эти разговоры. Бывало, сядет он у клумбы с цветами, вытащит альбом для марок, достанет большую лупу, невесть откуда взявшуюся, и рассматривает изображения далеких стран. Италия, Франция, Испания. Замки. Города. Дороги. Леса.
— Мань, поди сюда, глянь, какая башня на замке… Базо-о-ош дю Мо-о-орван, — с трудом читал Никитич, изучавший в школе французский, — какая красота.
Жена приходила, смотрела на марку, безразлично хмыкала и удалялась восвояси. А дед еще долго рассматривал иноземные строения, казавшиеся ему видами из сказки, а не реальности. Его тянуло в далекие страны. Жажда путешествий томила его. Что он видел в жизни, окромя узкой речушки, которая протянулась, как нитка через игольное ушко, у балки под селом? Ставок, носивший название Круглик, действительно похожий на чуть смятый по бокам круг. Вокруг степь да холмы. Все сухое. Его манило море и безграничная вода. «Наверное, в прошлой жизни я был моряком», — подумал дед и улыбнулся. А потом взглянул на пустой стул, стоявший у клумбы, осмотрел еще раз дом, тяжело вздохнул и закрыл дверь в свою прошлую жизнь.
Первым делом он пошел по селу вверх. Нужно сказать, что селение находилось в довольно большом углублении. Самые нижние дома расположились в огромной яме. Как гласит легенда, на этом месте был огромный склад боеприпасов немецкой армии во время Второй мировой. Якобы он взорвался, и воронка оказалась такой значительной, что село просело глубже. Так это или нет, но факт остается фактом — Пётр Никитич жил чуть ниже верхней границы села, то есть не в самой низине. В руках у старика болтался пиджак. Никитич устремился в противоположную сторону от воронки — туда, где находился известный дом погорельца. Легкой походкой он поднялся вверх по единственной асфальтовой дороге, которая, как дождевой червь, ползла по центральной улице.
Традиционно у домов на скамейках сидели представители пожилого сословия, как Пётр частенько называл местных бабушек и дедушек. Бабули собирались стайками и чесали языками, говорили о том, что война и бомбежки, слава богу, не добрались до них, перемывали косточки украинскому президенту Петру Порошенко. Однажды дед проходил мимо и услышал ядовитые речи, хотел было вникнуть в разговор, но смысла не нашел. Вся речь бабушек состояла из слов «хунта», «Новороссия», «пенсия», «шахты остановились», «зарплату не платят» и тому подобных. Дед тогда постоял возле них, ничего не сказал и пошел прочь.
Вот и сейчас несколько представителей пожилого сословия восседали на деревянной лавочке, смакуя последние новости о хунте и Путине. Никитич торопился, он хотел как можно быстрее миновать группу местного сельского информационного агентства, поэтому направился по другой стороне дороги, делая вид, что разглядывает облака.
Еще несколько минут — и показались крайние хаты села. Никитич приблизился к полуразрушенному дому пьяницы-погорельца. И в этот момент почувствовал, словно что-то тяжелое кусками отваливается от него, словно шелуха от семечек подсолнуха. Стало легче дышать.
Дед протиснулся в покосившиеся ворота, прошелся по двору, заполненному мусором, битым стеклом, камнями. Там же валялась старая тумбочка, которую кто-то тянул да бросил. Посредине — древний телевизор с выбитым оком кинескопа. Повсюду виднелись грязные комки старых газет, полные передовиц об успехах посевной, выполнении планов по сбору урожая местного колхоза. Довершало картину фото полной и грудастой румяной доярки в раскрытом советском журнале «Крестьянка». Выражение ее лица демонстрировало простое социалистическое трудовое довольство. Казалось, вот она — страна мечты и обывательского счастья, но кто-то поставил завершающий штрих: на лице доярки виднелся четкий след от сапога, раздавившего все размалеванные и выдуманные реальности советского социализма. Драма побитого и покинутого сельского жилища. Дед посмотрел на отпечаток и усмехнулся. Как, однако, в жизни складывается: случайность выстраивает вещи в таком порядке, что ей бы позавидовали все сторонники современной инсталляции.