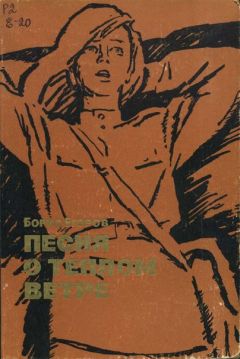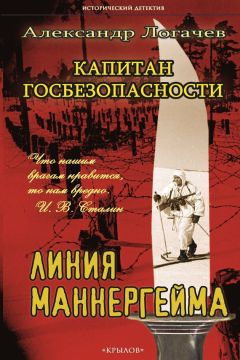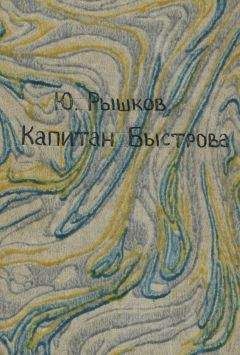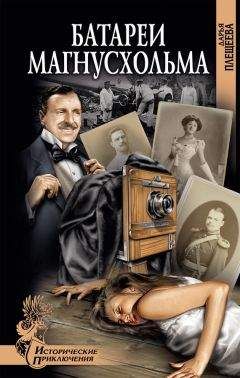Юрий Додолев - Мои погоны
— Заморился, браток? Если так, то сосни — сон от любой хвори лечит.
Мне хотелось дослушать Петровича, и я показал жестом, чтобы он продолжал.
— Сейчас, сейчас, — заторопился Петрович. — Но если лихо станет, знак дай.
Я кивнул.
— Вот так, значит, и жили мы, — снова начал Петрович, — не шибко богато, но и не бедно — как все в то время. С голоду не помирали — и ладно. А время, сам соображай, браток, трудное было — Советская власть только силу набирала. В глухих уездах банды лютовали, наши мироеды головы поднимали, когда слух доходил про убийство активиста или комсомольского секретаря. Братан старший голос на сходках срывал, наганом грозил, а мироеды ухмылялись в усы. Знали паразиты: если пальнет братан — крышка ему, потому как своевольничать никто не имел права. Родитель хотел отобрать наган, чтоб, значит, от греха подальше, но братан ему не подчинился. Первый раз в жизни голос на родителя поднял, сказал ему, что он, родитель, несознательный алимент и еще что-то. Я тогда это в одно ухо впустил, а из другого выпустил, потому как жениховался уже, но покуда не объявлял об этом, встречался с Глашей скрытно, за гумном — там роща была, по ней ручеек тек с такой водой, что скулы сводило. Родитель и братья зубья скалили, думали, что я по ночам к бабам-солдаткам шастаю, а я молчал — не хотел раньше времени открываться.
Петрович пошарил под подушкой в поисках кисета, снова ругнул сестер, отобравших курево, и продолжил дрогнувшим голосом:
— Осенью это случилось, без года двадцать лет назад. Дожди еще не начались, но ночью уже холодно было — впору тулуп надевать. Возвращались мы в ту ночь с Глашей в село. Вышли на гумно — пожар. Ночь звездной была, светлой. Искры, показалось, до самого неба долетали. Глаша в конце села жила, а мы в самой середке. Понял я — горим. Крикнул Глаше: «Народ кличь!» — и к избе. Как косой бег — дороги не разбирал. Прибег — вся изба в огне. На дороге братан старший лежит — с наганом в руке. Припал к груди ухом — мертвый. Другой братан своих детишков из огня таскал. Сестрин муж этим же делом занимался. Бабы голосили, как на похоронах. Только хотел в избу кинуться, чтоб, значит, родителя и родительницу вынести, — рухнула крыша. — Петрович провел рукой по лицу. — И родитель, и родительница, и братан средний, и сестрин муж, и племяши — все там остались. Только бабы уцелели и три мальца… Утром милиция приехала. Десять ден в селе пробыли, но дознались, кто красного петуха нам пустил и братана старшего угробил. К расстрелу приговорили мироедов. Двух сразу взяли, а за другими полгода гонялись — они в тайгу ушли. О том, что поймали их, я потом узнал, с писем. Мы с Глашей вскорости после пожара поженились и уехали с села. Спервоначала на лесосплаве работали, потом завербовались на строительство в город Магнитогорский. Два раза поносом болели, по-научному тифом брюшным, но деньгу взяли. Все там было в городе Магнитогорском: холод, голод, вши, но деньги сами в руки лезли — работай только, не ленись. Отработали, сколь полагалось, и вернулись в родное село, в Богородское, значит. На месте, где изба наша стояла, бурьян рос и головешки валялись. Сестра к тому времени в город перебралась, уборщицей работала, племяши в школу ходили. Жены братанов в другие села переехали. Поставили мы с Глашей новую избу, я по кузнечному делу стал. — Петрович чуть приподнялся. — Культя кузнечному делу не помеха, а, браток? Кузнецом и безногим можно, так ведь? В крайнем случае табурет возле горна приладим и, если мелочь какая, сидя скуем.
Петрович мог бы не работать — ему полагалась теперь пенсия. Но он и не заикнулся о ней, думал о работе. Это произвело на меня большое впечатление.
— До самой войны кузнецом я был, — снова заговорил Петрович. — А как война началась — в военкомат побег, хотя и имел по возрасту отсрочку. Жена, конечно, вой подняла, но я характер проявил. Она сейчас с сыном живет, он еще малец, осенью только пятнадцать исполнится. А дочь на фронте. Телефонисткой в штабе работает. Пишет: «Все, отец, у меня хорошо». Знаю — успокаивает. Она у меня самостоятельная и характером вся в меня. Племяши тоже воюют. Один в госпитале сейчас, другой, бог даст, до Берлина дойдет. А третьего не взяли — хилым оказался. Он сейчас в городе на военном заводе работает… А культя побаливает. — Петрович поморщился. — Отвоевался, выходит. Жена писала: приезжай хоть без ноги. Накаркала, глупая баба! — Встретившись с моим взглядом, сконфузился. — Это мы так, браток, к слову. Глаша моя башковитая женщина — лучше не надо. Почти два десятка годков прожил с ней в мире и согласии. И еще столько же прожить собираюсь.
Я все ждал, когда Петрович назовет меня пацаном и тем самым подчеркнет ту грань, которая отделяет его, бывалого солдата, от новобранца. Но Петрович упорно называл меня братком, и это льстило мне: слово «браток» стирало — так казалось мне — все грани, ставило меня в один ряд с ним.
— Крепко осерчал народ наш на германца, злой стал, — сказал Петрович. Его глаза блестели, щеки воспалились: видимо, подскочила температура. — Взять хошь бы тебя. Когда мальца, с которым ты к нам прибыл, убило и слезу ты пустил, грешным делом подумал я: какой с него вояка? А потом гляжу: бегишь, а на лице — злость. Ничего, браток, солдатом будешь. А там, глядишь, и войне конец. — Он помолчал. — Рассчитываю, к будущему лету кончится.
«Навряд ли, — решил я. — Три года назад тоже говорили: скоро, скоро, а получилось — воюем и воюем. И до госграницы еще далековато — километров двести с гаком».
Словно прочитав мои мысли, Петрович произнес:
— Верно говорю — недолго осталось. Самое поганое позади. Теперь не мы, а они пятятся. Жена отписывает: по радио слышно, как в Москве из пушек палят, — салютуют в нашу, солдатскую честь.
Еще до ухода в армию я видел салюты — расцвеченное ракетами небо, вспомнил: на душе в эти минуты становилось празднично.
— Помяни мое слово, — сказал Петрович, — еще чуток, и наш фронт вперед двинется. Та деревня, где нас с тобой свалило, — начало.
«Хорошо бы», — подумал я.
Петрович повозился на койке, вздохнул и добавил: — Соснуть надо — глаза смыкаются…
Вечером у меня прорезался голос.
— Го-о-ло-ва бо-о-лит, — пожаловался я сестре.
Заикался я сильней капитана Шубина. Решил, что навсегда останусь заикой, и расстроился. Даже от ужина отказался.
— Эка беда! — сокрушался Петрович. — Съешь-ка хоть котлетку, браток. Вкусная! — Он отправил в рот полкотлеты и зажмурился, показывая, какая она, котлета, вкусная.
Я лежал, уставившись в одну точку. На вопросы не отвечал. Такое состояние продолжалось часа два, а потом ударило в голову.
— У-у-убе-гу! — воскликнул я и вскочил с койки.
— Погодь, погодь, — заволновался Петрович. Приподнявшись, крикнул: — Сестренка!
Мне тотчас сделали укол…
Через несколько дней Петрович сказал:
— А высотку-то, браток, бают, взяли. Давеча, пока ты спал, Митрохин приходил — тот, что справа в окопе сидел. Запомнил его?
«Длиннолицый», — догадался я.
— В мякоть его садануло, — продолжал Петрович. — Убечь решил с медсанбата. Я бы тоже убег, кабы не нога.
Митрохин баил: младшего сержанта тоже поранило. В беспамятстве пока. Вон она, война-то! Сколь людей перемолола, сколь перемелет, покуда мы до Берлина дойдем.
Поднялся полог. В шатер хлынул поток солнечного света. В сопровождении эскорта вошла красивая врачиха в платье с глубоким вырезом, в лакированных туфлях на высоких каблуках, в небрежно наброшенном халате. Несмотря на платье, все называли врачиху «товарищ майор». Эскорт расступился, пропуская ее ко мне. «Видать, важная птица», — решил я.
— Как себя чувствуешь? — спросила врачиха, остановившись возле меня.
Я не ответил. Я не сомневался, что врачиха уже прочитала «историю болезни» и знает мое состояние. Эскорт заволновался. Дежурная сестра шепнула:
— Невропатолог это. Из армейского госпиталя.
«Плевать!» — Та почтительность, с которой эскорт обращался к врачихе, раздражала меня.
— Какой сердитый! — Врачиха улыбнулась, присела на край койки. Ее упругое бедро коснулось моего тела, я ощутил запах дорогих духов. Когда врачиха наклонилась, увидел в вырезе платья круглые груди. Они уютно и тесно лежали там, напоминая маленькие, спелые дыньки. Сердце учащенно забилось: «Как прекрасно, что я остался живым!»
В хорошем настроении я пребывал до самого вечера. После ужина сестра сказала:
— Собирайтесь, Саблин!
— 3-зачем?
— Эвакуируют вас.
— К-куда?
— В тыл поедете.
— A-а, ка-ак же он? — Я взглянул на Петровича.
— Его через несколько дней.
— Хо-очу вместе.
— Нельзя!
— Хо-очу!
— Не волнуйся, браток, — заговорил Петрович. — Ехай спокойно. Придет черед, и меня отправят. А ты поправляйся! После войны — в гости приезжай. Адрес простой: Тюменская область, село Богородское, Соцков-кузнец. Невесту тебе сыщу. Невест у нас — тыщи.