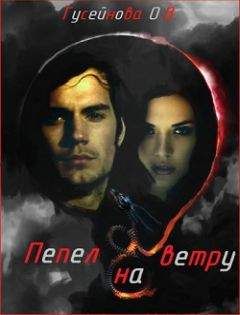Любовь Буткевич - Солдаты милосердия
Нужно спешить на каждый зов. Сделать все возможное в этих условиях, в потемках. И уколы делаю в темноте, смазав место укола йодом. Выручал слабый свет, льющийся из окон. Шприцы и иглы кипятила в небольшом стерилизаторе, который устанавливался на специальную подставочку. На подставку под стерилизатор подкладывался и зажигался кусочек сухого спирта. Кроме этого приспособления, бинтов и ваты, в нашем маленьком хозяйстве пока ничего больше не было.
Раненный в грудную клетку задыхался. Воздух со свистом проходил через рану. Требовалась срочная операция. А сейчас не только операцию, но и перевязку сделать нельзя по-настоящему. Наложила поверх бинтов давящую повязку, забинтовала поплотнее, да облегчения было мало.
Хотя бы лейтенант пришел. Он где-то Шуре помогает. Она ведь совсем одна останется, если он уйдет. Значит, не может оставить ее. Наверняка и у них положение не лучше, чем у нас с Машей…
Ух, какая длинная ночь! Скорей бы наступало утро!
Выбежишь за очередной охапкой соломы, хочется закрыть глаза, чтобы не видеть происходящего вокруг. Звуковой кошмар не утихал. Хотя и январь на дворе, а снегу здесь мало. Земля кажется черной, а небо и воздух — в огне. Словно пылает весь мир. А тут еще при вспышке орудийных залпов неподалеку высветило группу людей, вооруженных автоматами. «Может, это фашисты-разведчики, Неужели придут?!» — промелькнуло в голове.
Обхватив руками как можно больше соломы, спешу к больным. В работе окружающая обстановка ощущается не так остро.
Настолько плотно уложили людей, что ступить, казалось, некуда. А они все прибывали.
Снова перехожу от одного к другому, прощупывая пульсы, проверяя повязки — нет ли кровотечения. Делаю уколы — сердечные и обезболивающие. Раненных в грудь укладываю повыше, чтобы легче дышалось.
Под утро меньше стало поступать раненых.
— Ну, как там? — с нетерпением спрашивали новичков.
И от прибывших последними узнали о том, что боевая обстановка изменилась, стала надежнее. Кажется, закрепили линию обороны.
Раненному в грудь становилось все хуже. Он умирал. Я стояла перед ним на коленях и плакала.
— Ну потерпи, пожалуйста! — умоляла его. — Скоро придут врачи, сделают операцию, и станет легче.
Прибежал лейтенант. Посмотрел больного. Еще потуже стянули бинты. Но никакие просьбы и слезы не помогли ему дожить до утра. На рассвете он скончался.
На душе у меня было ужасно тяжело. Чувствовала себя виноватой в смерти человека, хотя знала, что спасти его могла только операция.
Добрые вести с передовой успокоили людей. Я вышла на крыльцо, чтобы передохнуть. Ветра не стало. Тучки рассеялись. С рассветом побледнела луна. А главное — наступила тишина на переднем крае. Это так необходимо было для всех нас, таких беспомощных. А еще главнее то, что никаких вражеских разведчиков не было. Это оказались всего лишь столбики от разрушенного мостика через маленькую речушку. Смешно!
Да, теперь смешно. И на душе легче стало. И усталость прошла, словно и не было этой кошмарной ночи.
Обстановка в Зозулинцах, где дислоцировались медсанбаты с большим количеством раненых, оставалась тревожной. Наступило временное затишье, которое могло взорваться в любую минуту. За ночь часть больных была перевезена в Юзефовку, где мы уже провели тревожную ночь. Рядом по территории сахарного завода проходила железная дорога, и представлялась возможность формировать санлетучки.
Ночь и следующий день продолжалась перевозка раненых, в том числе и тех, кто нуждался в покое. Чтобы уменьшить дорожную тряску, сопровождающие, стоя в кузовах машин, всю дорогу поддерживали на весу носилки, на которых лежали послеоперационные. Машины шли на малой скорости.
В Юзефовке заняли больницу и школу, а последних прибывающих раненых пришлось размещать по хатам.
Руководством госпиталя были запрошены из армейского автобатальона машины для вывозки людей и имущества, находящихся на станции. В эту же ночь они прибыли, и наконец, весь личный состав собрался в Юзефовке.
На передовой временами то затихала, то вновь оживала перестрелка. Судя по обстановке, необходимо было побыстрее переправить большинство раненых в тыл. С этой работой оперативно справился Николай Дунаевский.
В отделениях остались самые тяжелые, послеоперационные, с проникающими ранениями в грудь, живот, череп.
С травмой головы большинство находилось в бессознательном состоянии. Некоторые пытались подняться и с криком «Ура, за Родину!» бежать в «атаку». А некоторые лежали молча часами и многими сутками.
Один из таких, поступивший без документов, без фамилии в медицинской карточке, заполненной в медсанбате, не отвечал на вопросы и вообще не реагировал на окружающее.
— Как ваша фамилия? — то и дело подходили и спрашивали врачи, сестры или няни.
Нужно было узнать имя человека — кто он и откуда? Нужно было уловить момент, когда может проснуться сознание. Это был особый пост, который ни на минуту не покидали медработники.
Только дня через три больной, пролежавший без движения, слегка передвинул кисть руки.
— Как ваша фамилия? — поспешила я его спросить. — Как фамилия, ваша фамилия?
И вдруг он с усилием выкрикнул:
— Лукашенко! Лукашенко! Лукашенко!..
Теперь вторые сутки отключиться не может. Днем и ночью — все «Лукашенко!..» да «Лукашенко!..»
А я третьи сутки не выхожу из палат. Все подопечные ведут себя очень беспокойно во всякое время суток. Постоянно надо следить за каждым, чтобы не поднялись в «атаку», чтобы не напились воды после операции на желудке или кишечнике те, кого мучит жажда…
Снова крутимся с Машей, оберегая от всяких неожиданностей доверенных нам людей. Но в жизни всегда получается так, что благополучие держится до поры до времени. Вот и у нас, казалось, соблюдался полный порядок, и вдруг — чуть было не случилась беда.
В одну из ночей через щель приоткрывшейся двери палаты из коридора стал просачиваться едкий дым. Я вышла и увидела, что он идет из дежурной комнаты, где находятся медикаменты и кипятятся шприцы. В той же комнате стоят три кровати. Они не заправлены. Лишь по охапке сена брошено на них. Потому что ложатся там порой всего на несколько минут и прямо в шинелях. Иногда забегают дежурные по части, старшие сестры, вдоволь набегавшиеся по отделениям и по хатам. Или врачи, кто уже не мог стоять у операционного стола.
Открыла дверь дежурки и растерялась: стол объят огнем. Горят простыня, заменившая скатерть, и край одеяла, которым замаскировано окно. Самодельный светильник — небольшая бутылочка, наполненная бензином и накрытая срезанным кружочком картофелины с фитилем из бинта, — лежал на полу. От него к одной из кроватей бежала огненная струйка бензина. Зайди я чуть позже, большим костром вспыхнуло бы сено…
Почему бутылочка оказалась на полу? Взрывной волной со стола сбило, что ли?
Сорвав горящие простыню и одеяло, я стала тушить огонь. Из-за дыма ничего не видно, а тут еще слезь; градом бегут и кашель одолевает. Слышу, на одной из кроватей тоже закашлялся кто-то. Подхожу, открываю шинель, которой накрыт человек.
— Вставайте, — говорю, — задохнетесь.
А он поворачивается на другой бок, закрывая рот от удушливого дыма.
— Пожар! — кричу над ухом.
Это был лейтенант Крутов, дежуривший по части. Видно, тоже устал, наработавшись за день и набегавшись за ночь по территории.
Подошедшую Машу прошу принести еще несколько запасных одеял. Накрыла костер…
Когда опасность, казалось, была позади, я поспешила в палаты. Но, почувствовав неладное, оглянулась. Дежурка опять почему-то была охвачена огнем. Пламя быстро погасло, лишь удушливый дым кружил, да большими хлопьями летала черная сажа. Увидела, как вновь загоревшееся одеяло лейтенант накрыл своей шинелью и стал затаптывать сапогами.
Вся эта история длилась считанные минуты, может и секунды, но сколько было пережито! Ведь за стеной находились десятки таких людей, кто в случае пожара не смог бы выбраться самостоятельно, и помощь прибыла бы не скоро, потому что школа стояла в сторонке на краю села.
— Откуда появилось пламя? — спросила я Машу, когда ушел начфин.
— Лейтенант выплеснул из ведра воду, и почему-то снова все вспыхнуло.
— Какую воду?
— А что под кроватью стояла.
Я долго не могла успокоиться. Когда вернулась к больным, здесь было относительно тихо. Лишь изредка кто-то стонал да раздавалось бесконечное «Лукашенко!»
Рано утром забежала старшая сестра. Заглянула в палату:
— Где бензин? — спрашивает меня.
— Какой бензин?
— В ведре под кроватью вчера ставила.
— А-а-а, Крутов им… тушил пожар.
— Чего ты мелешь? — смотрит она удивленно.
— …Так вот, Валюша, оказывается, какую воду вылил Крутов на огонь. — Рассказала я старшей о ночном происшествии.