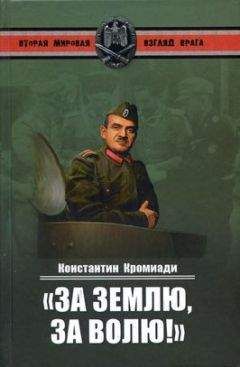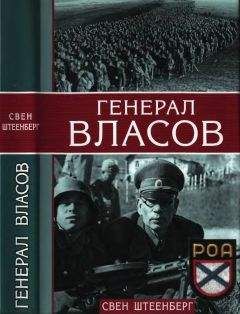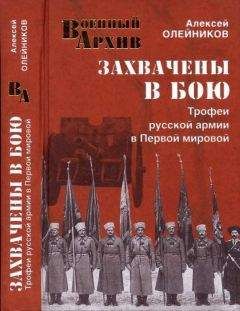Александр Казанцев - Третья сила. Россия между нацизмом и коммунизмом
Прелесть человеческих взаимоотношений, для нас обычных и не привлекающих нашего внимания, для них была новой и радостно свежей. Мораль, этику, взаимоотношения друг с другом, отношение к людям вообще, отношение ко всему миру они перестраивали наново. Они по-новому переживали прелесть дружбы, не отравленной обязательной бдительностью, которая от них требовалась всю их жизнь, свободу мыслить и говорить, до зари спорить об отвлеченных, не имеющих практического значения вопросах, от чего их отучила советская власть, — всё это было для них новым, неведомым и волнующе радостным миром.
Бдительность — это язва советской жизни. Быть бдительным это значит в каждом человеке видеть, прежде всего, возможного врага, шпиона, агента иностранной разведки. Советская газета «Социалистическое земледелие» уверяла, например, что крестьяне, работая в поле, поют такую частушку:
Каждый кустик, бугорок я обхожу со всех сторон,
— За кусточком иль за кочкой Может быть, сидит шпион…
Эта — государственного масштаба — кадриль — не карикатура. Власть хочет, чтобы так было на самом деле. И в какой-то степени ей это удается. Шпиона нужно искать всюду, им может оказаться каждый: сослуживец на предприятии, спутник в поезде, сосед по квартире, член своей семьи, отец или брат, любимая девушка и продавец в магазине, где вы покупаете хлеб, каждый из них может быть злоумышленником, предателем, антисоветским элементом, каждый из них может замышлять всяческие козни против советского строя и даже — о ужас! — против руководителей партии и правительства. Долг каждого советского гражданина следить за всеми вместе и за каждым в отдельности, с кем бы и где бы он ни встречался, и если он найдет что-нибудь подозрительное в поведении этих людей, он должен сразу же донести об этом органам НКВД. Если он не исполнит своего гражданского долга, не донесет, а это сделает кто-нибудь другой, гражданин привлекается к ответственности как соучастник. Тайная политическая полиция содержит на государственный счет миллионный аппарат секретных сотрудников. Сотни тысяч людей дали подписку, под давлением НКВД, исполнять функции сыщиков бесплатно. Практически, в собравшейся небольшой компании всегда нужно считаться с возможностью, что один из присутствующих является соглядатаем полиции и работает не за страх, а за совесть, потому что и за ним кто-то следит. Можно представить, каким адом выглядит жизнь способного критически мыслить, каким ужасом ему кажется окружающий его с детства мир. К этому привыкнуть нельзя. Пока человек остается человеком, а не становится дрессированной обезьяной, это тяжелым камнем давит на сознание всю жизнь. И вот люди освобождаются от этого. Не нужно ни следить, ни доносить, ни бояться доносов. Впервые в жизни они полностью познают, как чисты, как радостны, как искренни могут быть отношения между людьми. Они пьют эту радость полными глотками.
В рассказах о советской жизни часто говорится о большом моральном падении людей: доносы, ссоры, сутяжничество — обязательные спутники советского общежития. Это объясняется не свойствами народной психологии, а условиями, искусственно созданными советской властью. Эти же самые люди, попадая в другую обстановку, становятся совсем другими людьми.
При первом знакомстве, когда приходилось говорить о вещах, говорить о которых было большим риском, когда нужно было говорить слова, за которые гитлеровское «правосудие» автоматически рубило голову, я, признаюсь, чувствовал себя неуверенно. Только острое сознание необходимости заставляло делать то, что нужной Очень скоро я успокоился на этот счет совсем. За все время общения с людьми «оттуда» я ни разу не пожалел о своей доверчивости ни разу не раскаялся за излишнюю откровенность. О том же самом говорили в один голос и все мои друзья.
Мир образов, внушенных этой молодежи с детских лет, нелегко выпускает из своего плена, хотя на каждом шагу, с каждой прочитанной книгой она видит, что этот мир образов — ложь.
Советская пропаганда для изображения ненавистного капиталистического общества пользуется методом двухцветного печатания. На ее палитре только две краски: как ночь, черная и ослепительно белая, без всяких переходных тонов. Черной краской рисуется буржуй, капиталист, зубастый, брюхастый, с головы до ног увешанный золотыми цепочками и брелоками. Главная его забота и цель жизни — угнетать беззащитных рабочих.
Белая краска — для изображения узников капитала, братьев по классу. Они вечно голодны, бесправны. Основное их занятие быть безработными. Они пухнут с голода под заборами, где время от времени избивают их полицейские, находящиеся на службе у магнатов капитала. Рабочие с надеждой и мольбой смотрят на мерцающие на востоке рубиновые звезды кремлевских башен. Оттуда, только оттуда они ждут освобождения и помощи.
В эту карикатуру в значительной степени верят и сами вожди, чем и усугубляется трагичность положения. Вожди так принюхались к собственному зловонию, что уже не могут представить просто чистого воздуха. Если взять теперешний состав Политбюро, то из всех его членов почти никто не говорит ни на одном языке, кроме русского. Исключение составляет Сталин, говорящий и по-русски с большими ошибками, и только сильный грузинский акцент делает их не такими заметными. Ни один из них, как правило, не бывал за границей, если не считать вновь присоединенных провинций, как Румыния, Польша, Венгрия и др.
В «Вопросах ленинизма» Сталин так рисует положение вещей за границей: «Мы должны двигаться вперед так, чтобы рабочий класс всего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой передовой отряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя рабочая власть, вот оно, мое отечество, они делают свое дело, наше дело — хорошо, поддержим их против капиталистов и раздуем дело мировой революции. Должны ли мы оправдать надежды мирового рабочего класса, выполнять наши обязательства перед ним? Да, должны, если мы не хотим опозориться вконец».
Если перевести на обыкновенный человеческий язык все эти ужимки и причмокивания, то получается, что рабочий Бостона или Ливерпуля, Чикаго или Манчестера отечеством своим считает не Англию или Америку, а СССР, правительством — не то, которое он избрал на выборах, а господ министров, пекущихся о нем в Кремле, — Сталина, Молотова, Берию, Вышинского и других. Мир ушел далеко вперед. Нет ни тех отношений, ни людей, ни обстоятельств, которые были сто лет назад, когда Маркс писал свой «Коммунистический Манифест», а вожди Коминтерна, то есть советское правительство, все еще живут в мире тех ушедших в невозвратное прошлое, образов. В мире тех же ушедших образов они стараются удерживать и народ. Мне это кажется почти невероятным, но знакомство со вчерашними советскими гражданами говорит о том, что советской пропаганде это в какой-то степени и удается.
Молодой лейтенант из сельских учителей. Человек любознательности совершенно ненасытной. Через неделю после того, как он попал в плен, какое-то военное начальство направило его сюда. Жизнь по эту сторону он не видел и старается представить ее по рассказам более бывалых товарищей, но больше всего пристает ко мне.
Говорит он со вкусом, любит разобраться во всем досконально, если задает вопрос, то для понятности, иногда в нескольких вариантах сразу:
— Александр Степанович, вот вы всякие такие штуки здешние знаете. Вопрос есть у меня.
— Давайте…
— Вот, предположим, я рабочий, ну, работаю, там, на каком-нибудь заводе или фабрике. Понятно? Вот. И предположим, еду я в трамвае с работы, может, на работу, а может, по своим делам каким-нибудь или просто так, к приятелю. Так? Слушайте дальше. Вдруг в трамвай, то есть в котором я еду, входит, слушайте, слушайте, — входит капиталист или, как их у вас называют, банкир или фабрикант, одним словом буржуй. Так? И вот тут-то вопрос и есть… — Он обводит глазами присутствующих и приглашает их взглядом посмотреть, как я буду выворачиваться из этой головоломки. — Тут-то вопрос и есть — что я должен делать? Понимаете? Должен ли я, к примеру, выйти из этого трамвая или могу остаться, если уступлю ему свое место? Вот какая механика. А ну, ответьте!
Кстати замечу, ему было двадцать два года, он был сначала пионером, потом комсомольцем, но большевизм ненавидел всей своей нетронутой крестьянской душой.
Я отвечаю.
— Ну, это вы, то есть, конечно, простите меня, это вы что-то заливаете, — с веселым недоверием всплескивает он руками. — То есть как же это, по-вашему, получается — садится он рядом со мной, а если места нет, так и стоит? Ну, это уж вы немножко перехватили.
Мой попытки рассказать о подлинной, настоящей демократии, о том, как она выглядит в Англии, Америке, других странах, успеха просто не имеют. Реакция у всех более или менее одинакова:
— Так это быть не может…
Второй — тоже лейтенант. Этот более разбитной и натасканный. В Советском Союзе он работал по вербовке рабочей силы в селе для промышленности. Германию уже немного успел посмотреть — где-то в Силезии с рабочей командой работал в сельском хозяйстве. В суждениях лаконичен и непоколебим. Присаживается молча к столу, долго закручивает папиросу, закуривает и, выпуская первые клубы дыма, рубит, как топором: