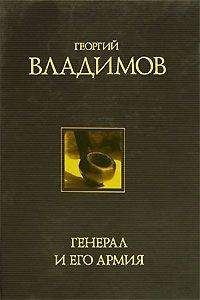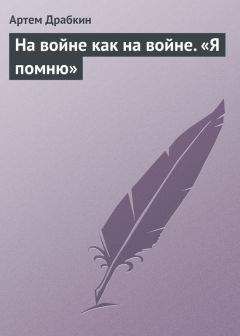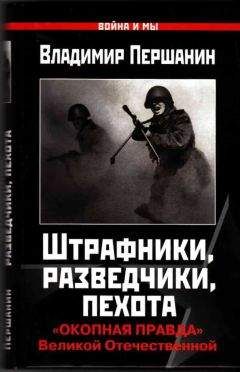Анна Немзер - Плен
С Толей же произошла страннейшая, а на самом деле совершенно обычная история. Вы прямо как дети, — раздраженно говорил Виктор, — какие-то святые, ей-богу. Чего тут странного-то? Вечно эти ваши… живете как на облаке. (Это был такой лейтмотив их совместной жизни: Гелик и Аля, дескать, возвышенные, все про Блока, да про Блока, а Виктор такой недалекий, а Гелена такая приземленная, о литературе с ними не поговоришь, они все то в ЖЭК, то по магазинам). — Но как же, Витя… — растерянно говорила Аля. — Ведь столько лет… (Все вздрогнули, вспомнив волосатого гуся из Кащеевки-Калитеевки) — Да, столько лет! — гневно отвечал Виктор. — А мы все идиоты. Еще, считай, повезло.
А дело было так. Через четыре дня после их возвращения из Венгрии в гости на Кировскую явился «пингвин» — гэбэшник, сопровождавший их группу в поездке. Его надо было принять на полчаса, это был акт лояльности и дипломатии — на такие дела они всегда выставляли Виктора, и он, высокий, солидный, в золотых очках, вел переговоры с управдомом, с сантехником, с директрисой Жениной школы… ну и этого хмыря взял на себя. Гелик вышел погулять по Чистопрудному, Аля сидела в дальней комнате, вся в клубах сигаретного дыма, и нервно листала нового Трифонова, Гелена принесла в гостиную парадный кофе с печеньем и ретировалась в ту же дальнюю комнату. Виктор достал из серванта «Белого аиста», время пошло. — Ну как вам поездка? — Интереснейшая страна! — И дамы ваши довольны? — Дамы очень довольны! — все в таком духе. И тут появился Толя — все ребята обычно приходили вечером, а Толя — непредсказуемо, забегал пообедать в середине дня, забрасывал какие-нибудь билеты… И вот сейчас так же забежал, на минуточку, сунулся в комнату: Вить, так насчет шахмат… — произошел молниеносный перевзгляд, «пингвин» — Толя, Толя — «пингвин», Толя, лучезарно улыбаясь, сказал: Ох, простите! Влетел, как голая баба во двор. Не буду вам мешать. До скорого, Вить!
Больше Толю они не видели никогда.
— Идиоты мы! — бушевал Виктор. — Идиоты и есть! Пятьдесят человек народу в доме, дверь нараспашку и шутки шутим! Мало нам было того упыря, который газ открыл! Можно было, кажется, задуматься, кого в квартиру пускать! — Но, Витя, — Аля прикуривала одну от другой, пальцы у нее совсем были желтые от никотина — согласись, он с нами с пятьдесят какого-то — с какого, кстати? Кто-нибудь помнит? — Вот! С пятьдесят какого-то он с нами, а мы ни адреса его, ни места работы — ничего! Ничего не знаем, ничего не помним! Все такие из себя не от мира сего! Пародию на «Вопросы языкознания» сочинили — и пятьдесят человек на Новый год явились и все ее читали! — Пародию, Вить, после пятьдесят шестого сочинили! — слабо защищался Гелик. — И на том спасибо! — грохотал Виктор. — Не совсем еще из ума выжили! А мало ты, можно подумать, до пятьдесят шестого сочинил?! Святые люди!! — Я не знаю, я не знаю, — пыталась сопротивляться Гелена, — он такой был наш друг, он так помогал… (все опять вспомнили гуся) — Еще бы не помогал!! — взрывался Виктор. — Ннннда… Надо думать, возможности у него были… — тянула Аля, постепенно свыкаясь с ужасной новостью. — Что же делать теперь? — растерянно и с тоской спросила Гелена. — Не знаю, что делать! Раньше думать надо было! — Вот интересно, а тебе, значит, не надо было?! Что ж тебе мешало проявить свою проницательность?! (Дело катилось к ссоре.) — А знаете, что я вам скажу, милые мои… — вдруг вступил молчавший пока Эрлих, который тоже присутствовал на семейном совете. — Вы не паникуйте так особенно. Ничего он не сделает.
Они вытаращили на него глаза.
— Ну что, смотрите… Он с нами с пятьдесят какого-то года. Возможностей у него было… Поводов мы ему давали… Ан нет, ничего. Дальше. Скажите мне — зачем он весь этот балаган устроил? Зачем к тебе, Вить, ворвался с этими шахматами? Как голая баба во двор, да? — как он сам сказал. Он что — не понял, что у тебя посторонний? Он что — у вас накануне не был и не слышал ваших разговоров и не знал, кто к тебе должен в это время прийти? Голубчики — да кто он, по-вашему, недотыкомка? Плохо ж вы о них думаете.
— Так ты что ж думаешь…
— Я думаю, что все он прекрасно знал. Что все это он сделал нарочно. Он — как бы это сказать… сошел с дистанции. Сам. Сознательно. Он так с нами со всеми попрощался. Почему — это другой вопрос. Не ко мне. И пойдемте уже домой, замерз я от этой вашей конспирации.
Эпилог
2006 год, журнал «Э-р», материал «Исповедь детей века» — серия интервью с людьми старше ста лет. Одно из интервью, расшифровка:
Подолянская Евгения Николаевна, 106 лет.
Милые мои, скажите, куда мне говорить, а то я вижу не очень хорошо. А, можно просто так? Ну хорошо. Я вам скажу, чем я больше всего потрясаюсь, это прогрессом. Но знаете как? Не что он быстрый. Уууу, да мы-то думали, что в двадцать первом веке все люди уж сами будут летать на своих крыльях — а пока все только на самолетах и на этих… как называется? Ну так на них еще Икар летал. Так что прогресс не быстрый на самом деле, но что меня потрясает — какой он удобный. Вот что главное-то! Вот я читать не могу, у меня один глаз не видит, так что? Мне внуки купили такое изобретение — что можно книжки слушать; и я уже столько всего прослушала, и классику, и современных писателей. Я прозу очень люблю… такая прелесть, я вам скажу.
Хорошо, давайте тогда сами спрашивайте, а то я начну болтать… Мне внуки говорят: бабушка, помолчи, сколько ты говоришь! Не всерьез, конечно, смехом. И правнуки тоже. Слушайте, а вот я спросить… У меня правнуку старшему шестнадцать, так если у него родится, я же буду прапрабабушка! Рекорд! Напишут про такое в вашей газете?
Внуки, правнуки — не мои… они мои внучатые. Сестренки моей они внуки и правнуки настоящие, а ее уж нет давно… Ой, скольких я похоронила, ой, мои дорогие… Я удивляюсь, как это я столько живу. Так я горевала сначала, что не умираю никак… когда сестренку хоронила, когда племянницу мою любимую, зятя… А потом я подумала: что-то в этом есть, наверное, какой-то замысел, не знаю… Но горевать, значит, нельзя.
Да. Да. Пейте кофе! Я какой-то дурацкий пью, без всего. Да, так вот. Вам же про что интересно? Про девятнадцатый век. Но я его не застала. Вот сестренка моя — да. Наташа. Она с девяносто четвертого года. И мы с ней всегда так дружили, несмотря на разницу в возрасте. В Петербурге мы жили, я, конечно, мало что помню, но Наташу помню прямо с первых своих лет. Так мы друг друга любили, дружили. А потом война началась. Наташа тогда была уже взрослая, она тут же в Царское Село, на курсы сестер милосердия, им там княжна Гедройц преподавала — слышали, наверное? Уууу, какая была суровая женщина! Людей резала. И стихи писала под мужским именем. Тогда многие девушки в сестры милосердия подались, особенно когда Александра Федоровна комитеты возглавила. И тоже сама солдатиков перевязывала. А мне что? Я затосковала. Я младше была, меня никуда не пускали. И как только смогла, как мне пятнадцать исполнилось — тут же туда, к Наташе поближе, в царскосельские лазареты. Все боялись, я не смогу, не выдержу, я слабенькая была — а я крепче всех оказалась! Я и перевязывала, и на операциях присутствовала, на самых тяжелых, и все, что еще нужно. Потом мы на нашем военно-санитарном поезде санитарками были… Ой, что я вам расскажу, будет смешно! Я потом только узнала, что на нем тогда же, в шестнадцатом году, поэт Есенин санитаром был, но мы его не знали… Я бы с ним поспорила за все его дальнейшие выступления, скажу честно! Ведь эта его «Снегина» — это я вам доложу, такая подлость! «Он — вы» — не угодно ли??
(вопль с кухни: Бабушка!)
О, видали?! Контролируют. Ну ладно, неважно в самом деле про Есенина. Так вот, удивительное время. Такие горизонты, такие люди — ой! Дома-то мы мало видели интересного, нас держали строго, не пускали никуда. А тут открылось нам… и без внимания не остались. Вернулись мы с войны, счастлииивые! Да-а, как вспомню, прямо в носу кусается. Вернулись мы, а в городе такое делалось, такое… Ой, даже представить противно, передергиваюсь; один вопрос у меня всегда был: зачем кругом сортир разводить? Это ж какое-то прямо недержание: прямо там, где шел, там и… Я понимаю: революция, возмущение масс. Но такого сортира… Да, ну неважно. И тут моя Наташа дочку родила, племянницу мою любимую. Потому что на войне жизнь зарождается. Это, милые мои, надо усвоить. Были бы родители живы, да кабы не события — ой, что бы было! А так… никому дела ни до чего, и слава Богу. Я помню, пришли мы ее записывать, сидит там такая баба страшная, с усищами, комиссар — как, говорит, звать и кто отец? А Наташа так спокойно отвечает: отец у ней — альфонс. И что вы думаете? Баба-комиссар слюнявит карандаш и пишет, как миленькая, в метрике: Альфонсовна. Так мы хохотали…
А дальше что вам сказать… Сначала мы девочку нашу растили и как-то немножко на этом отвлеклись. Вокруг посмотрели только году в тридцатом… И дальше… ох, какое было отвратительное время, прямо вспомнить противно. Мы все жили с Наташей и думали: хоть бы что-нибудь случилось, хоть война, что ль, началась бы. Все лучше, чем так. Жуткое время! И чем дальше, тем хуже, хуже… Вы знаете, если я много болтаю, вы меня поправляйте. Я такая болтушка стала, ужас просто. Мне вон правнуки говорят: бабушка, хорош трепаться. Так что вы меня останавливайте. И, наверное, надо кофе еще. Олечка! Свари им, будь добра.