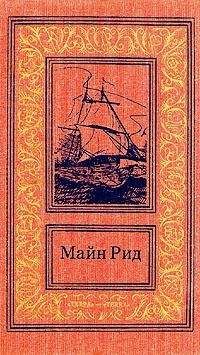Карел Птачник - Год рождения 1921
Гонзик улыбнулся.
— Покойной ночи, — сказал он. — Вы ко всем больным так же внимательны, как ко мне?
Доктор остановился в дверях.
— Я стараюсь добросовестно выполнять свой долг врача по отношению ко всем пациентам, но не отрицаю, что вы заинтересовали меня больше других. Это понятно: еще ни один пациент не кричал у меня на операционном столе «Смерть фашистским оккупантам!». Покойной ночи!
В воскресенье Гонзика пришла навестить чуть ли не вся рота. Ребята расселись на свободных койках и на столе и вели себя так непринужденно и шумно, что сестре пришлось зайти и прикрикнуть на них.
— Вот еще не хватало! — огрызнулся Кованда, когда за сестрой закрылась дверь. — Товарищ лежит на смертном одре, а ты сиди тут, как чурбан. Так, что ли? Надо же его подбодрить, пробудить охоту к жизни, хоть она и собачья. За обедом я говорю Олину: пойдем навестить больного товарища? А он: какого такого товарища? Гонзика, говорю, а он только рукой махнул. Ну, говорю, кабы ты с разбитой башкой лежал, Гонзик бы у тебя наверняка побывал, хоть ты и зануда.
Послышался робкий стук в дверь, и в палату вошел старый Рийк со своими голландцами. Усы у него были тщательно расчесаны, а в зубах торчал новенький вишневый мундштук. Подавая Гонзику руку, он так волновался, что капли пота выступили у него на лбу, а его ломаный немецкий язык стал еще невразумительнее.
— Ich, — удрученно говорил он, — oben Dach, verflucht Balken herunter, Himmlfix! Kopf kaputt du, ich weinen, Kamerad, mein Sohn[31].
И поцеловал Гонзика в лоб.
Растроганный Кованда обнимался с другим голландцем и хлопал его по спине.
— А ты, я гляжу, не носишь деревянных башмаков, братец, — удивлялся он. — Ну, а сигарета у тебя есть?
Старый Рийк рассказал Гонзику о своем сыне, погибшем при бомбежке Роттердама; слезы текли по лицу старика, и он вытирал их платком.
— Knabe schön, — вспоминал он сына, — alt wie du. Dreiundzwanzig. Bomben kaputt, alles weg, Haus, Sohn, alles. Deutschland muß kaputt, wenn Gott ist. Muß![32]
Уходя, он сунул Гонзику гостинец — пачку черного голландского табака и банку молочных консервов; Гонзику пришлось снова заверить его, что он не сердится на старика за то, что тот уронил с крыши балку.
Товарищи Гонзика тоже собрались уходить, но все никак не могли с ним расстаться.
Кованда счел нужным дать Гонзику несколько отеческих советов.
— Выписываться ты не спеши, — сказал он. — Полежи вволю. В Германии нигде больше тебе такой лафы не будет. А как вернешься в казарму, строй из себя слабенького. Эх, братец, будь у меня твое увечье, я бы такое разыграл, что обалдели бы все доктора. Ты, говори, что башка все время болит и кружится, разок, другой грохнись об пол, лучше всего в строю, при капитане. Рви на себе волосы и всякое такое. И чтобы на губах была пена, как у бешеной собаки. Черт подери, да на этом можно заработать чистую и уехать домой, понял?
Мирек не согласился с Ковандой; он слышал, что в таких случаях доктора вскрывают череп и ищут причину болей и головокружения. «На что тебе это сдалось?» — пожал плечами Мирек.
Кованда обиделся.
— Представь себе, доктора вскроют твою черепушку, — сказал он Миреку. — То-то им будет удивление: какого только мусора там нет. Ну, делай, как знаешь, — обратился он к Гонзику. — Нынче всякий сопляк считает себя умнее старика.
Гонзик лежал на спине, закинув руки за голову, окутанную белым тюрбаном из бинтов.
— Не хочешь ли ты спровадить меня домой, папаша? — слегка усмехнувшись, сказал он Кованде. — Именно теперь, когда я так привык к тебе? Без тебя я уже не проживу. Уж если ехать на родину, так всем вместе. Как подумаю, что вы застряли тут, а я прохлаждаюсь дома, мне и радость будет не в радость.
Кованда наклонил голову и пристально посмотрел в глаза Гонзику, потом уставился в пол и носком сапога стал постукивать по ножке кровати.
— Ну, кажется, пора, — сказал он наконец и надел шапку. — В воскресенье придем опять, — он смущенно взглянул на Гонзика. — Надеюсь, до воскресенья ты выдержишь?
Карел, вернулся от дверей и положил на ночной столик какой-то твердый предмет, завернутый в чешскую газету.
— Чуть было не унес обратно. Эту книгу ты выбрал себе в тот день, когда свалилась балка.
После ужина пришел доктор, сел на постель и взял в руки книгу, которую Гонзик отложил при его появлении.
— Я вам кое-что принесу почитать, если хотите. У меня неплохая библиотека: немецкие и французские книги. Вот встанете, сами увидите. Правда, скоро я уйду в отпуск.
Он потушил лампочку на столике, поднял светомаскировочную штору и открыл окно.
— Там так хорошо! — воскликнул он. — Но когда вам захочется закрыть, скажите.
В палате был полумрак, в окно струился свежий прохладный воздух.
Оба молчали. Гонзик лежал на спине, подтянув одеяло к подбородку и вытянув руки вдоль тела. В сгущавшихся сумерках доктор в белом халате показался Гонзику немного похожим на Пепика — вероятно, благодаря золотым очкам, которые тоже придавали лицу строгое и холодное выражение.
Доктор был худощав, ростом с Гонзика, у него тонкий, строгий рот, нос с горбинкой и небольшие усики. Светлые волосы над высоким лбом зачесаны назад. Он сидел, заложив руки между колен, и глядел в окно. Так они молчали довольно долго, а за окном густела ночь, и душистый прохладный воздух наполнял больничную палату. Потом доктор встал, закрыл окно, но не опустил шторы. Вернувшись к постели Гонзика, он сел на нее и попросил:
— Расскажите-ка мне что-нибудь о себе.
Это было сказано так просто, что Гонзик без всяких предисловий начал говорить, словно давно ждал такой просьбы.
Он родился в пограничном городке. Двенадцать тысяч жителей, сахароварня, лесопилка, завод сельскохозяйственных машин, крупное железнодорожное депо, школы, река, булыжные мостовые, спокойные и сердечные жители, в окрестных деревнях цветущие, самоуверенные сельчане, кругом — широкая равнина и урожайные поля: рожь, картофель, сахарная свекла. Гимназия находилась близ парка, на перекрестке главных улиц, учителя ходили, как святители в ореоле, — «знаете, как бывает в таких городках». Люди там жили тихо и мирно, без борьбы, без потрясений, бедняки ютились на окраине, в низких деревянных бараках, где прежде помещались гарнизонные казармы. Немцев в городе почти не было.
Гонзик ходил в гимназию. Успехи? Средние. Учился он без особой охоты. Его страстью была музыка, он играл с шести лет и скоро перешагнул обычный уровень учеников старой музыкальной школы, стоявшей у реки. После школы он брал частные уроки и в шестнадцать лет сдал экзамен в консерваторию, но у родителей не хватило средств дать сыну музыкальное образование. Отец был рабочим на заводе сельскохозяйственных машин и зарабатывал неплохо, даже домик себе построил в 1927 году: взял денег в долг и выплачивал его по частям, четыре раза в год. Пока он выплатил только половину. Домик был одноэтажный, с мансардой и садиком, девять на двадцать пять метров: яблонька, груша, слива, ореховые кусты, шиповник — всего двенадцать деревьев. Маленький дворик. Окна на реку, а за рекой лес, куда ни глянь, всюду лес и в двух часах ходьбы от реки — граница.
Оккупация у них в городе? Не думали, не гадали эти простые люди, что немцы могут позариться на их город. Но город был захвачен. Только для того, чтобы занять важный железнодорожный узел и перерезать магистраль, которая отсюда разветвлялась во все стороны.
Люди плакали и ходили как тени. Потом потянулись в соседние деревни, которые остались в границах Чехословакии. Как погребальное шествие на похоронах чешской свободы. Люди везли ручные тележки, детские коляски, узлы, чемоданы. А несли с собой свое отчаяние и слезы.
Потом пришли немцы — стальные шлемы, танки, а в небе страшные стаи самолетов, которые для острастки носились низко над городом.
Прежде всего немцы выгнали евреев. Тех самых евреев, что с незапамятных времен гордились своими симпатиями к Германии. Их выгнали на поляну за городом, туда, где кончалась оккупированная зона. Там они десять дней пробыли под караулом — с одной стороны немецкие, с другой — чешские часовые. Их не пускали ни обратно в город, ни дальше, в убогую урезанную Чехословакию.
Десять дней жили евреи на поляне. Шкафы, столы, стулья, ковры, кровати, тюфяки — все помещалось на голой земле и в канавах. Была середина октября, шли дожди. Люди лежали на постелях, укрывались промокшими одеялами, залезали под столы, потому что негде было укрыться от дождя. В большинстве это были богатые евреи, бедных в городе просто не было. Торговцы кожами, текстилем, вином, велосипедами, владельцы антикварного магазина, скупщики кож. Адвокат Берл взял с собой посеребренную клетку с канарейкой. Канарейка прожила недолго, Берл — тоже. Он умер под мокрыми одеялами на стоявшей в грязи старомодной кровати. Немцы не позволили похоронить его на еврейском кладбище, потому что оно находилось на занятой ими территории. Берла зарыли у дороги, в яме глубиной едва ли в полметра. И ребенок родился на этой поляне, под дождем и мокрыми одеялами. В холоде. Его похоронили в той же яме, что и старого Берла. Только через десять дней евреям, разрешили перейти новую границу республики.