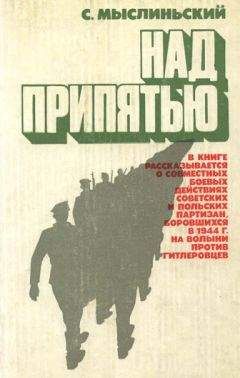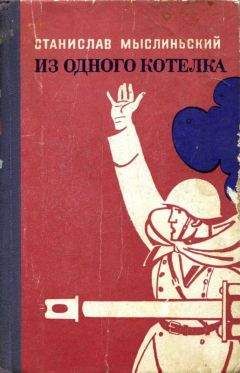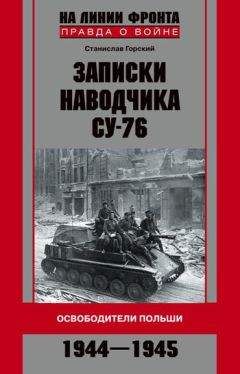Жозеф Кессель - Экипаж
Как хрупка была его жизнь и напрасна тревога, терзавшая его последние два дня! Как маловероятен был его шанс, а вместе с тем и шанс Мори ускользнуть от воздушных засад! Да и разве не могла бы решить в скором времени всех проблем их одновременная гибель?
В тот же момент неуемное, как инстинкт, желание жить заставило его выпрямиться. А поскольку смерть неусыпно его подкарауливала, то неужели он, вновь повернувшийся к ней лицом, не имеет права на все, и зачем отказываться от заведомо высшего подарка судьбы?
День клонился к ночи, ярче и грубее разжигающей пламя желания. Она поманила его к тому дому, дорогу к которому он открыл лишь накануне; только одного он боялся – что не застанет в нем Денизу.
Как только она увидела его дрожащий рот, его лихорадочно трепещущие веки, она бросилась в его объятия, как никогда ранее охваченная страстью и еще более прекрасная, чем всегда.
Глава II
Поезд вновь увозил Эрбийона по направлению к линии фронта. А он нежно и чуть свысока, как о младшем и совсем неопытном брате, думал о том, кто три месяца назад садился в этот же поезд.
Нетерпеливое ожидание приезда больше не сжимало его горло пьянящей тревогой. Вопросы, во время его первого отъезда казавшиеся ему самыми главными, больше перед ним не вставали. Он теперь знал, что в эскадрильи отвагой никого не удивишь, поскольку храбрый ты или нет, каждый честно выполняет свою опасную обязанность; он знал, что мастерство наблюдения стоило больше, чем безрассудная храбрость, что пуля по своей прихоти делала человека победителем или жертвой и что подвиги находились во власти удачи. Случайность, пассивным объектом которой он являлся, внушала страх, но ему больше не было за него стыдно; он сохранял уверенность в том, что, оказавшись в кабине самолета, сумеет собрать в кулак необходимое хладнокровие и всю свою волю для успешного выполнения задания.
Не предаваясь меланхолии, он продолжал трястись в поезде. Жизненный опыт избавил его от героических иллюзий, но вместо них появился вкус к комфорту, который был не менее приятным. На вокзале Жоншери его будет ждать машина с белым кроликом, талисманом эскадрильи. В своей родной комнате, стены которой его стараниями утратили былую мрачность, ординарец Матье разожжет керосиновую печку, веселившую его своим мелодичным потрескиванием. Проснувшись, он окажется в окружении товарищей. Столовая оживится смехом Тели, обрадованное лицо Марбо вытянется от удивления, когда он узнает, как Жан порастратился в увольнении; капитан Ройар, потеребив свой седой ус, извлечет из него какие-нибудь непристойные замечания.
Он возвращался в радушную и многочисленную семью, здоровую, грубоватую семью, состоящую из одиноких мужчин, где жизнь управляется элементарными законами поведения, не отягощенными чрезмерными условностями.
По мере того как путешествие приближалось к своему завершению, парижские образы, которые еще несколько часов назад так сильно волновали его, постепенно бледнели и становились едва различимыми.
На то, чтобы привыкнуть к жизни в увольнении, ему потребовался один день, фронт же принял его обратно еще до того, как он до него добрался.
На следующий день, когда первые после пробуждения мгновения еще держали стажера в плену грез, Мори осторожно вошел в его комнату. Действуя под влиянием каких-то бессознательных защитных инстинктов, Эрбийон закрыл глаза, но через полуприщур ресниц стал за ним наблюдать.
Клод остановился на пороге. Над халатом, скрывавшим недостатки тела, возвышалась его задумчивая, облагороженная утренним освещением голова. Он долго смотрел на Эрбийона. А его лицо, не зная, что за ним наблюдают, говорило о такой глубокой, такой благородной дружбе, что для стажера его выражение стало невыносимым. Угрызения совести, приутихшие было в последних ласках его подруги, ожили вновь, став еще острее. Ему захотелось крикнуть: «Вы не можете так на меня смотреть!»
Однако Мори робко закрыл дверь.
В ту же секунду Жан открыл глаза и трезво взглянул на то, что происходило. Он даже не мог оправдаться своим незнанием, потому что перед отъездом совершил сознательное и низкое предательство. Софизмы, которыми он себя в тот момент одурманивал, теперь, в этой комнате, состоящей из холодных линий и по стилю напоминающей келью, ничего не значили. Здесь все было четко, как сама жизнь в эскадрильи, и это обязывало рассуждать четко и ясно. Ситуация, которая в Париже казалась такой сложной, здесь сводилась к голым линиям.
Молодой человек твердо решил попросить капитана разбить их экипаж и, если потребуется, – обо всем рассказать Мори. Это было единственно честное поведение, и не исключено, что Клод даже смог бы его простить.
Он с готовностью представил себе эту сцену, основанную на взаимной честности и благородстве, и подумал, что она вполне отвечает той жизни, в которую он вновь вливался. Не усматривая в ней наивной, книжной и жестокой стороны, а видя одну только патетику, он встал, словно освободившись от бремени, окрыленный радостью от предстоящей встречи с товарищами.
Прием оказался именно таким, каким Жан его себе представлял. Отныне он являлся тем, кто прибыл вновь занять свое место за общим столом и в общей борьбе. Ему представили недавно прибывшее пополнение: Нарбонна, заменившего Дешана, и стажера-наблюдателя Мишеля. Он узнал, что Новий получил крест и тут же был вызван в министерство, что Брюлара ранили, а на Флоранс из Жоншери пало подозрение в шпионаже.
День потек быстро, его поглотили прежние привычки, в русло которых он вошел с приятным автоматизмом. В своей комнате он разложил новые, привезенные из увольнения вещи, книги, сходил на летное поле, зашел к унтер-офицерам, прочно закрепился в том стиле жизни, который ему предстояло разделить с товарищами на предстоящие четыре месяца, если только какое-нибудь происшествие, теоретически возможное, но инстинктивно сбрасываемое им со счетов, не положит ему конец.
А когда в сабо, в старой куртке, плохо скрывавшей его потрепанный свитер, он присел к стойке бара, где обслуживал вновь прибывший стажер, ему на память пришел первый разговор с Марбо, и он сознался самому себе, что толстяк-наблюдатель оказался прав и что в эскадрилье главными были не полеты, не отвага, не страх и даже не смерть, а комфорт и умение обустраивать свою жизнь.
Пока он курил, сидя со стаканом портвейна, к его плечу прикоснулась рука, нервное давление которой он сразу же узнал.
– Вы пьете один, мой плохой товарищ! – воскликнул Мори. – У вас не нашлось даже минутки, чтобы поболтать со мной.
Эрбийон неопределенно повел рукой, но упрек друга устыдил его. Он действительно избегал возможности остаться с Мори наедине, и это ему показалось неслыханной трусостью. Какой смысл было прибегать к таким мелочным уверткам, если ему так или иначе предстояло поговорить с ним начистоту?
Он ответил:
– Я откладывал наш разговор на вечер.
В его голосе слышалось усилие, прилагаемое им, чтобы выдержать взгляд Клода, и вызов, брошенный им самому себе. От Мори все это не ускользнуло, однако, зная за собой особенность болезненно остро, а подчас и ошибочно воспринимать чужие слова и поступки, он решил не придавать этому значения.
Вошли товарищи, привнеся своим появлением ту непринужденную веселость, которая создавала тональность этой большой комнаты, где обитала звонкая душа эскадрильи. Они одолели молодого человека шуточками, и он отвернулся от Мори.
Когда со стола убрали посуду, Тели спросил:
– Эрбийон, будешь играть в бридж?
Жан не знал, как ему поступить. Клод умоляюще смотрел на него. Неужели он опять станет оттягивать момент признания? Он решил не поддаваться этой слабости, уже ликовавшей от возможности отсрочки.
– Только не сегодня, господин капитан, – сказал он, – хочу пораньше лечь спать.
После такого ответа в его адрес посыпались лестные шуточки по поводу того, чем он занимался в увольнении, а он тем временем уже шел по коридору.
Пока они не вошли в его комнату, Клод, несмотря на то, что Эрбийон догадывался, что он дрожит от нетерпения, не сказал ни слова, словно не решался доверить свое волнение чужим стенам. Однако едва дверь за ними закрылась и прежде чем Эрбийон сумел придать своему лицу должное выражение и утвердиться в своем решении, Мори спросил:
– Ну, как вам Элен? Как она говорила с вами обо мне?
Видя эти широко раскрывшиеся глаза, это до такой степени напрягшееся тело, что казалось, будто какое-нибудь неодобрительное слово может его сломать, молодой человек почувствовал, что никогда он не наберется такой бесчеловечности, чтобы заговорить. Фразы, наедине с самим собой казавшиеся ему столь благородными, столь непринужденными, теперь комом встали в горле. Нет, видя подобную любовь, лучше было врать стойко, изворотливо и терпеливо, врать, как врет запутавшаяся в интрижках женщина, чем пусть по капле, но дать просочиться правде.