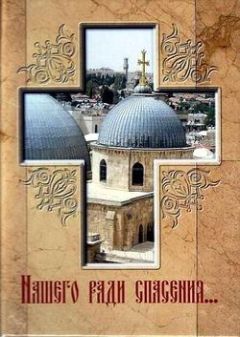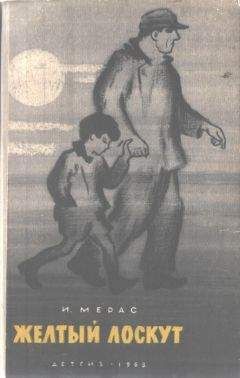Юлиан Шульмейстер - Служители ада
Вертит Ландесберг нож, стучит по столу то острием, то противоположным концом, разглядывает ручку из черненого серебра, эмблему промышленной фирмы (корона и вязь из двух букв). Отложил нож и спрашивает:
— А не нарушает ли война современный экономический порядок, не обрывает ли межгосударственные связи — основу мировой экономики?!
— Может оборвать, а может и не оборвать! — Не опровержение, а подтверждение своих мыслей увидел Ротфельд в вопросе Ландесберга. — Ради этих связей Гитлер пошел на примирение с уже завоеванной Францией, прекратил военные действия против раненной, но не поверженной Англии и начал войну с находящейся вне мирового порядка Советской Россией. В войне с Россией Гитлер найдет примирение с Соединенными Штатами.
— А евреи?
— Тот, кто хочет примириться с Соединенными Штатами, не может уничтожить евреев.
Все логично и прочно в рассуждениях Ротфельда, но кажется Ландесбергу, что это его адвокатская логика, адвокатская прочность, превращающая в ничто доказательства, вину в невиновность. Ротфельд сам себя успокаивает и для этого отбрасывает, как ненужное, все, несущее гибель евреям. В прошлом Ротфельд не раз рассуждал об антисемитской бацилле, поступающей в кровь с рождением христианина. Тогда прочность мирового сообщества видел в том, что евреи, как и другие народы, должны жить в своем государстве, ныне об этом не вспоминает.
— А каково теперь ваше мнение об опасностях антисемитской бациллы?
— Не изменилось. Но кроме толпы, для которой цивилизация — лишь непрочная рубашка на шкуре дикаря-людоеда, есть класс правителей-аристократов духа и мысли. С падением дворянства и прочей наследственной знати, выродившейся в бессмысленную касту бездельников, основой класса правителей стала промышленно-финансовая элита. Класс правителей живет и будет жить по законам финансово-экономических связей, законам высшей культуры, недоступной толпе. Для него антисемитизм — лишь средство управления полудикой толпой. Невозможно игнорировать нравы и вкусы толпы, иначе можно потерять управление.
Ландесберг не стал дискуссировать о законах высшей культуры, спустил Ротфельда с небес на кровоточащую твердь:
— Так будут ли господа из немецкой элиты натравливать украинцев на нас, евреев?
Сник Ротфельд, молчит, и Ландесбергу говорить неохота. Обоих страшит завтрашний день.
Подвальная тишь вновь обрывается грохотом, никогда так долго не длилась бомбежка. Будет ли конец и какой: жизнь или смерть? Что есть смерть? Для Ландесберга она только физиологическое явление, превращающее высокоорганизованную материю в обычное мясо, которое следует как можно быстрее закопать. Сама смерть не страшна, от нее не уйти, страшны предсмертные муки. Как их избежать?.. Как всегда избегал! Только глупцы видят в благонамеренных гражданах основу современного общества. Нет таких граждан, человечество делится на ловкачей и олухов, желающих, но не умеющих жить за счет ближних. И в Германии у власти ловкачи и проныры, действующие необычными методами ради самых обычных целей. Не оборвет жизнь немецкая бомба, придется приноравливаться к новым условиям жизни. Немецким властителям, какие бы ни были антисемиты, потребуются ловкие, не отягощенные предрассудками люди, в том числе евреи. Не найдет свое место, пенять не на кого. Ротфельд прав в главном: правители и толпа живут по различным законам!
Глава третья
Разгромлены львовские улицы, разбиты витрины, сломаны жалюзи, магазины зияют опустошенными полками. На окраинах пусто, чем ближе к центру, тем больше людей. Молчаливых, угрюмых, исподлобья глядящих на марширующий вермахт. На улице Легионов разгуливают празднично одетые люди с желто-голубыми флажками и лентами.[23] Обступили желто-голубые молодчики двух евреев, улюлюкают, свалили на землю и топчут.
Спешит Наталка, убыстряет шаги, с трудом сдерживается, чтоб не бежать, мерещится, что над Фалеком измывается толпа негодяев. Может, в живых уже нет!
Промчалась по лестницам на свой третий этаж, дверь никак не отопрет, скачет ключ, не попадает в замочную скважину. Отомкнула, муж невредим, выжидательно смотрит. Опустила глаза, как бы не угадал ее мысли. Вошла в детскую, Ганнуся симпатично посапывает, золотятся волосики, разрумянились щечки. Нагибается Наталка все ниже к кроватке, капают слезы на доченьку.
Обнял Фалек Наталку, нежно вывел в столовую, на кушетке прижались друг к другу. Два года женаты — а для Наталки будто первый день их любви. Как Фалека защитить?
«Как защитить?» — думает Фалек о любимой. Годы счастья, рожденного в муках, — как дивный сон! Каким будет будущее?
Так и встретили ночь. Спят и не спят, мучают мысли — кровавые призраки. Думает Фалек о том, что фашисты разрушили основу всей жизни, ужас вползает в каждую клеточку мозга, пронизывает страхом все его существо. Не тем страхом, который испытывает трус перед сильным и смелым, не тем, который охватил безоружного перед вооруженным грабителем, не тем, который сковывает волю перед обезумевшим зверем. Тот страх с отдушиной: сильный может сжалиться, грабитель — только забрать кошелек, зверь — обойти стороной. Страх Фалека — без отдушины: еврею не будет пощады. Сию минуту, через час или два, сегодня или завтра неизбежны унижения, пытки и смерть…
Идут дни, вести все хуже и хуже, терзается Фалек: не видит спасения. В доме все знают — супруги: еврей и украинка. Соседи — солидные, вежливые — раньше при встречах раскланивались, теперь кое-кто отворачивается. Пусть отворачиваются — лишь бы не донесли. Когда Наталка дома — хочется, чтоб побыстрее ушла. Ворвутся бандиты, замучают не только его, но и Наталку с Ганнусей. Уходит Наталка — с нетерпением ждет возвращения. Кажется, что на нее напали бандиты, издеваются и избивают за то, что живет с евреем, сейчас ворвутся в квартиру…
Сегодня с утра ушла Наталка за хлебом, Фалек места себе не находит, минуты кажутся часами! Квартира наполняется шорохами, враждебными звуками. Многократно усиливаясь, они бьют тревожным набатом. Слышатся на лестнице шаги, приближаются. Шаги!.. Конечно, шаги!.. Остановились!.. Сейчас ворвутся!.. Дрожащей рукою гладит Фалек детскую головку. Какие мягкие косточки.
Тишь оборвал протяжный звонок. Приросли ноги к полу, а мысли — к Ганнусе и к смерти. Грохочут удары, рыдает ребенок, ручонками уцепившись за шею: «Папочка!..» Надо открыть, сорвут дверь, тогда…
Фалек лихорадочно шепчет Ганнусе:
— Тихо-тихо, не то злые дяди побьют.
Умолкла Ганнуся, сжалась в комочек. Вышел в прихожую, отомкнул замок, снял цепочку с двери, отлетел в дальний угол.
— Почему жид не открывал, золото прятал? — бьет полицай по лицу.
Позади полицая дворник Федько презрительно хмыкает:
— Не утруждайтесь, пан полицейский, у этого пана только книги и вши. Откуда золото, на хлеб не умел заработать.
Подозрительно взглянул полицейский на дворника: чего лезет, чего защищает жидов? А может, говорит правду? На груди дворника большой желто-голубой бант и австрийская медаль за первую мировую войну. Не пошел полицай в комнаты, скомандовал Фалеку:
— Пошли, будешь учиться работать.
Вышел за полицаем, закрыл дверь на ключ, беда обошла Ганнусю. Надолго ли?
На площади святого Юра незыблемо монументален собор, рядом — жалкие развалины сгоревшего одноэтажного здания. Валяются головешки, обугленные балки, искореженные листы железа, осколки и гвозди. Под охраной трех полицаев шестеро евреев очищают площадь от всевозможного хлама.
— Ручками убирать, только ручками! — скалит полицай зубы и размахивает кулачищем под носом. — Станешь хитрить — узнаешь, как Христос мучился, когда ваши распяли! — ткнул Фалека и, повернувшись к собору, перекрестился. Истово, с верой.
Ползает Фалек на четвереньках, собирает осколки и гвозди, окровавились руки.
Со двора на площадь выходит молодая монашка, черная ряса подчеркивает прелесть юного тела. О боге ли мыслит? Кокетливо улыбнулась идущему навстречу офицеру вермахта — отутюженному, до блеска начищенному. Видит ли ползающих у развалин евреев? Стали евреи малозаметными, неприятными атрибутами города, такими, как пыль или грязь, смываемая после дождя.
Остановился офицер у святоюрских ворот, почтительно обратился к монашке. Ответила, оживленно беседуют. Монах показался в воротах, укоризненно покачал головой. Идет монах мимо развалин и не видит евреев, отделенных от человечества шестиконечными звездами. А на груди у монаха золотой крест с распятым Иисусом — милосердным, худым, изможденным.
Горестно глядит Фалек на монаха с крестом, оглушает полицейский кулак:
— Куда, быдло, пялишь зеньки!
Подошел начальник конвоя, выговаривает молодому коллеге:
— Разве жида проймешь кулаком? Не жалей сапог, будут новые.