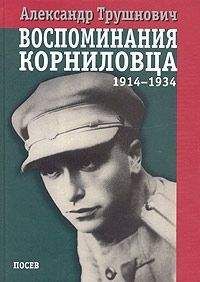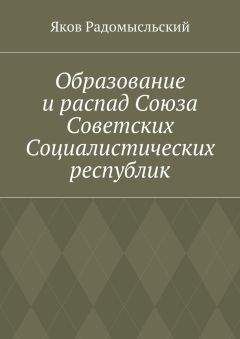Александр Трушнович - Воспоминания корниловца (1914-1934)
— В чешском корпусе полубольшевицкий дух, главный выразитель которого комиссар корпуса Макса. В корпусе, к сожалению, нет вождей славянской ориентации, которыми гордился чешский народ во время своей упорной борьбы с немцами. Масарик может и хотел бы вмешаться в русские внутренние дела, но его влияние в корпусе не так велико, как это может казаться. Если бы среди чехов находился, например, Крамарж, то все было бы иначе. Крамарж никогда не отделял чешских дел от русских и на совершающиеся в России события смотрел со славянской точки зрения, правильность которой он сумел бы доказать окружающим.
Я сопровождал Неженцева в штаб Корнилова. Небольшая комната, простой стол, на котором карты, чернильница, браунинг и больше ничего. Он только что говорил с двумя текинцами и сиял от радости: с ним снова верные рыцари, с которыми пришлось расстаться в лесах Белоруссии.
В комнате оставался войсковой старшина Десятого первоочередного Донского полка.
— Вы утверждаете, — говорил Корнилов, — что с нами чуть ли не большинство. А можете ли их назвать по фамилиям? Вы скажите мне точно.
Старшина долго пересчитывал, оказалось — восемь человек.
— Я так и знал. За эти дни я так уже привык критически относиться к заявлениям “все пойдут” и “большинство за вас”. Мы можем рассчитывать только на единицы. И то хорошо: восемь человек, да Вы, старшина, девятый.
К Масарику
Простившись со старшиной, Корнилов обратился ко мне.
— Готовы ли вы, поручик, отправиться к президенту Масарику? Я знаю, что Вам не нужно объяснять ни обстановку, ни наши нужды и пожелания. Я дам Вам с собой письмо. Подробностей не будет на случай, если с Вами что-нибудь произойдет. Генерал Алексеев Вас ждет.
Корнилов пожал мне руку и пожелал успеха. Я видел его в последний раз.
Приемная генерала Алексеева была набита людьми. Половина из них могла и должна была бы находиться в Хотунке. Я ощущал к ним одну неприязнь: этот репейник и здесь цеплялся за наше здоровое тело!
Вышел генерал Алексеев, нашел меня взглядом и пригласил в кабинет. Постарел он за это время. Быть может, ни одному русскому человеку не выпала такая тяжелая доля, как генералу Алексееву, мало знал он радостных дней. Мы долго говорили о чехах, я отвечал на вопросы, лицо его становилось еще более озабоченным и печальным. Он вручил мне письмо и простился тепло, по-отечески. Закрывая за собой дверь, я видел седого генерала, стоявшего задумчиво посреди комнаты.
Киев. Январь 1918 года. Власть в руках петлюровцев, полубольшевиков и ненавистников России. К Киеву подходит Муравьев с большевиками. Каждый в городе знает, что петлюровцам не удержаться.
Чешская Рада помещалась в одной из гостиниц. Вручив Масарику письмо, я долго объяснял ему наше положение и говорил о надеждах, которые мы возлагаем на братьев-чехов. Масарик обещал созвать Раду, где должен был решиться этот вопрос. Обещал написать письмо. Макса был здесь же. Он по-прежнему курил сигары и, судя по его виду, недостатка в питании не испытывал.
В ожидании прошла неделя. Зная положение на Дону, я досадовал и беспокоился. В начале второй недели я начал требовать ответ. Со мною несколько раз говорил военный комиссар, кажется, Клецанда. Я чувствовал, что он настроен к нам доброжелательно, но сделать ничего не может. Чешским корпусом управляла другая сила, перед которой беспомощен был даже Масарик.
Может быть, я ошибаюсь, может быть, между Масариком и этой силой никаких расхождений и не было. Во всяком случае, я видел, что ответ уже предрешен и задержка только в одном из видов “реальной политики”. В конце второй недели я заявил, что ждать больше не могу. Масарик назначил день и час для вручения ответа.
Сидя в маленькой комнате за круглым столиком, Масарик объяснил, что Рада решила во внутренние дела России не вмешиваться и просьба Корнилова и Алексеева удовлетворена быть не может. Вручить же ответ в письменном виде, как было обещано, он считает невозможным, ввиду опасностей, ожидающих меня в пути. Тоже, вероятно, “реальная политика”: нежелание оставлять письменное свидетельство позорного решения.
Это было введением в беседу, которая продолжалась довольно долго. Передо мной у Масарика был полковник Л., неверно описавший обстановку, преувеличивая силы, собравшиеся на Дону. Но про обстановку на Дону сообщали Раде также и чехи, прибывшие из Новочеркасска.
Масарик высказал мнение, что движение на Дону создано кучкой реакционных генералов и обречено на неудачу. Я возразил: движение возглавляют Корнилов и Алексеев, в честности и любви которых к России нельзя сомневаться, а в реакционности заподозрить невозможно. На это он ничего определенного не ответил, предложил мне не возвращаться в Новочеркасск, а оставаться в чешском корпусе, с которым я мог бы покинуть Россию. Я, по молодости лет, ответил довольно напыщенно:
— Чехи отвернулись от России. История подведет итоги, и боюсь, что скоро. Сейчас с нами только Бог и трехтысячная Добровольческая армия.
Кроме того, генерал Алексеев поручил мне передать одно распоряжение генералу Драгомирову. Бывший командующий Северо-Западным фронтом принял меня в своем кабинете. На стенах, по военной традиции, висели фотографии его семьи. Невольно в душе возникло сравнение двух славянских течений, господствовавших тогда в древнем Киеве: с одной стороны, жертвенный русский идеализм, с другой — эгоистический и потому близорукий “реализм” чешских руководителей.
Впоследствии генерал Драгомиров занимал высокие должности в Добровольческой армии, но его принципиальный характер не мирился с моральным падением равных ему и ему подчиненных. В вопросах чести он никогда не знал компромиссов и поэтому ушел.
В поисках армии
Пробираться из Киева на Дон было еще труднее и опаснее, чем с Дона в Киев. Стоит ли останавливаться на подробностях? Сколько русских людей тогда пробирались? Пробираться означало: проверка (фальшивых) документов, лишения, голод, езда на буферах, на крышах вагонов, в теплушках с озверелым народом, ожидание ареста и расстрела. Несколько раз я был на краю гибели. Но Господь хранил.
Попрощался с гостеприимными хозяевами, закинул мешок за плечи и тронулся в путь. Я все еще разыскивал корниловцев, ушедших в степь.
Екатеринодар. Ночевал в духовном училище. Был принят генералом Эрдели. Доложил все, что знал о движении генерала Корнилова на юг, по-видимому, на Екатеринодар. Эрдели сказал, что ни один из посланных на связь с Корниловым не вернулся. Сказал, что удерживать фронт трудно, так как казачество в борьбе против большевиков не участвует, и что ему со своими частями, вероятно, вскоре придется оставить Екатеринодар и уйти в горы.
— Может быть, вы будете счастливее… Дай вам Бог!
Город в те дни был пуст, военных почти не было видно. Чувствовалось: все считают, что большевики не сегодня-завтра займут Екатеринодар.
По Красной шел трамвай с ранеными. При виде их сжалось сердце, вспомнилось снежное поле, серое небо, одинокий вагон и звероподобные люди в серых шинелях. Мозг сверлила мысль: как их убьют? Выволокут во двор? Или заколют штыками прямо в палатах? Ночью или днем?
А может, пощадят? Кто? Они пощадят? Беременных матерей не щадят, убивают детей на глазах родителей, родителей на глазах малолетних детей… Для них ничего святого нет. И зубы сжались от злости. Скорей бы добраться до своих.
До Тимашевской я доехал поездом, потом на подводе до Брюховецкой. Одет я был подходящим образом, зарос щетиной, узнать во мне офицера было невозможно. Не совсем правильная русская речь помогала мне выдавать себя за военнопленного австрийца. Хотя одна банда, надо думать, петлюровцев, приняла меня за еврея и чуть не убила. Едва удалось уйти, нырнув под вагон медленно идущего товарного поезда.
Я рассчитывал: если Корнилов под Сосиками, он, безусловно, движется на Екатеринодар. Следовательно, мне надо пробираться через степь по направлению к Выселкам. Расспрашивать было опасно, да никто ничего толком и не знал. Переночевал я в Брюховецкой. Вечером там был сход казаков; один из них нес булаву и, издеваясь, играл ею как игрушкой, остальные ржали от удовольствия.
Из Брюховецкой я вышел рано утром. По дороге попалась подвода с хозяином и работником, военнопленным австрийцем. Мне разрешили подсесть. Так меньше обратят внимание. С работником мы говорили по-немецки. Он предложил мне махорки и, кивнув в сторону хозяина, шепнул: “Буржуй!” До их хутора было верст восемнадцать, я там переночевал. Хозяйкой была молодая мещанка из Петрограда. Ее отец умер от голода, брата расстреляли в ЧК. Она отправилась на юг за хлебом и здесь вышла замуж за хуторянина. Я попросил ее порасспрашивать, где Корнилов. Никто не знал. Говорили, что большевики собираются у Выселок.