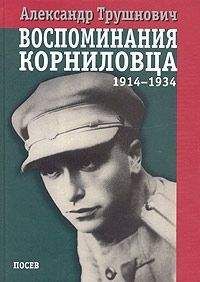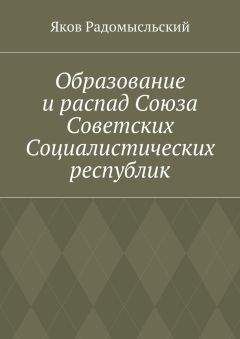Александр Трушнович - Воспоминания корниловца (1914-1934)
С Корниловым произошло то же, что произошло со многими русскими в эти дни. Сила и груз традиций, привычный образ мышления стали причиной гибели многих, вовремя не вырвавшихся из смертельной опасности.
Решение Корнилова нас удивило, но мы предполагали, что у него свои расчеты. После приказания генералу Крымову двигаться на Петроград настал один из самых трудных дней. Утром из Ставки вернулся Неженцев, вызвал нескольких из нас и сообщил, что Ставка отрезана от всего мира. Не было ни телефонной, ни телеграфной, ни конной, ни пешей — абсолютно никакой связи.
Весь день прошел в:жуткой тишине. К физической усталости — последние дни мы спали не раздеваясь, то и дело вскакивая ночью, — присоединилась моральная угнетенность. Большевики успели разложить находившийся при Ставке Георгиевский батальон и настроить его против Корнилова. Разлагающая работа местного горсовета уже сказывалась и в нашем полку. Мы все еще стояли на одном месте, и это было нашей гибелью. От Петрограда до Одессы все было в движении. Мы рвались раздавить это гнездо, этот горсовет. Но нам сказали: “Нельзя, это было бы противозаконно”.
К вечеру положение не изменилось. На ночь караулы из текинцев и чехов были усилены. Вечер мы провели в здании гимназии. Почти все мы, южные славяне-добровольцы, собрались вместе. Хотелось обсуждать, говорить, но слов не было. Воцарилось самое напряженное из всех видов человеческого общения — молчание. Приближался грозный момент, которого не желали наши молодые сердца: гибель армии и родины.
На следующий день, кажется, к обеду, возобновилась связь с севером. Голос неизвестного сообщил, что генерал Крымов застрелился. Генерал Корнилов был объявлен изменником. Ночью на Ставку двинулись матросы. Наши на автомобилях поехали разбирать пути.
Большевицкой агитацией не были охвачены несколько рот и чехи-пулеметчики, но наши части редели. Разложение охватило и некоторых офицеров. Двое из них организовали чтение “Новой жизни” Горького. Мы уговорили Неженцева принять решительные меры. Их удалили из полка. В Ставку прибыл начальник Штаба Верховного главнокомандующего генерал Алексеев с приказом Керенского об аресте генерала Корнилова. Неженцев сказал, что встретились они чрезвычайно трогательно и по-дружески. Алексеев приехал, чтобы спасти от расправы Корнилова и тех, кто был с ним. Выполнив свою задачу и убедившись, что у Корнилова надежная охрана, Алексеев подал в отставку; начальником штаба Керенский назначил генерала Духонина.
Корнилов перешел в качестве арестованного в гостиницу “Метрополь”. Караул там несли поочередно текинцы и чехи моей роты, охраняя генерала от возможного нападения.
После отставки и ареста нашего вождя нас становилось все меньше. В каждом батальоне было по одной совершенно распропагандированной роте. Хуже всех была третья рота первого батальона, офицеры которой были малокультурными и колеблющимися. В конце концов солдаты их сместили и выбрали ротный комитет. Каждую ночь мы ждали какого-нибудь сюрприза вроде попытки к разоружению. Неженцев в отчаянии обратился за помощью к генералу Алексееву и затем прибежал к нам из Ставки.
— Постройте третью роту, начальник Штаба хочет с ней говорить.
Затем вполголоса сказал мне несколько слов. Мы привели в боевую готовность две верных роты, чтобы в случае необходимости обезвредить третью.
К одиннадцати часам во двор, один, без сопровождающих, вышел генерал Алексеев. Его ожидала группа офицеров. Мы, подавленные всем происходившим, проводили его в классную комнату, где находилась третья рота. Как сейчас вижу седого генерала: среднего роста, с белыми усами, с печальным и строгим лицом. Преклонные годы не изменили выправки воина и решительной походки. Мы стояли рядом с ним, раскрыв и передвинув вперед кобуры наганов. Сменный офицер скомандовал: “Смирно!” Солдаты на команду не обратили внимания. Генерал Алексеев быстро обвел роту опытным взглядом и крикнул:
— Здравствуй, третья рота!
Молчание. Ни один солдат не шевельнулся. Генерал, еще до 22 мая бывший Верховным главнокомандующим Русской армией, весь передернулся и крикнул:
— Здравствуйте, русские солдаты!
Прошли мучительные секунды. И вдруг рота, как огретая плетью, дрогнула и, выпятив грудь, выкрикнула:
— Здравия желаем, господин генерал!
Не дав им опомниться, генерал Алексеев сделал единственное, что в те дни мог сделать, — произнес речь.
— Вы ли те русские солдаты, которых я вел победоносным походом на Карпаты? Не вы ли носите форму славной Русской армии? Что с вами сделалось? Какая враждебная сила сумела превратить вас, дисциплинированных русских солдат, в стадо бунтовщиков? Вы носите имя храбрейшего и честнейшего русского генерала, который не стремится ни к чему иному, как к спасению родины от позора и рабства.
Окончив речь, генерал Алексеев обратился к офицерам:
— Господа офицеры третьей роты, становитесь на свои места.
Он повернулся к выходу и обвел нас невидящим взглядом. Но затем напряжение Алексеева спало, он кивнул нам седой головой, рука поднялась к козырьку. Мы проводили его до ворот.
— Спасибо, господа. Попросите командира полка зайти ко мне.
Мы смотрели вслед. Он одиноко шагал по улице Могилева к бывшему губернаторскому дому. Кто мог пронести мимо него чашу страдания? Два славных, преданных родине генерала открыли печальное шествие русского народа на Голгофу.
Генерал Корнилов должен был переехать в Быхов. Я попросил Неженцева исходатайствовать для нас свидание с ним. Несколько корниловских офицеров уже попрощались со своим генералом. Текинский офицер приветливо улыбнулся, приложил руку к сердцу:
— Главнокомандующий вас просит.
Генерал Корнилов стоял за длинным столом в полутемной комнате с тяжелыми шторами, обставленной мягкой мебелью. Он пожал нам руки и пригласил сесть. Мы сели, но от волнения чувствовали себя как ученики на экзамене и не знали, с чего начать. Он понял, и по его загорелому лицу пробежала отеческая улыбка. Я начал:
— Ваше превосходительство, от имени южных славян — офицеров и вольноопределяющихся, а также от чехов Корниловского полка мы пришли пожелать вам счастливого пути и сказать, что мы всегда будем с Вами и с Россией.
— Я глубоко тронут верной службой, которую вы несете России. Я тоже думаю, что без России вам будет трудно удержаться…
Затем Корнилов расспрашивал нас о нашем добровольчестве. Лицо у него было доброе, и он говорил с нами не как начальник, а как простой русский человек. Языки наши развязались, и мы выложили ему все наболевшие вопросы как на исповеди. Человеку, имя которого мы носили, я не мог не задать последний вопрос:
— Ваше превосходительство, как Вы представляете себе дальнейшую судьбу России?
Его лицо опечалилось, глаза сузились. Подумав, он ответил:
— Я боюсь только одного, чтобы союзники не заключили мир за счет России. Если этого не произойдет, то я уверен, что мы справимся собственными силами. Не может не опомниться русский народ.
Вскоре мы тоже уехали из Могилева. Чинов Ставки мы оставили на произвол судьбы, и они были в большом унынии. Ехали на юг, через Киев и, не доезжая до Шепетовки, на небольшой станции Печановка, в окрестностях которой были расположены чешские части, выгрузились. По пути от нашего полка отстало несколько сот человек.
После корниловского выступления армия стала разваливаться еще быстрее. Все окрестности кишели уходящими с фронта солдатами. Наши части расквартировали по селам, и это было ошибкой: из ближнего местечка к ним проникали разлагавшие их агитаторы. Впрочем, большого значения это уже не имело, разложение охватило буквально весь фронт от Балтики до Одессы, мы были последней организованной частью Русской армии.
По поручению Неженцева я несколько раз ездил в штаб чешской дивизии к комиссару Максе. В Могилеве, пока у власти был Корнилов, чехи обещали нам некоторую материальную помощь. Когда положение изменилось, Макса стал увиливать от ответа и наконец отказал, не сдержав данного слова.
После ареста Корнилова командир полка Неженцев по инициативе Керенского подал прошение во французскую военную миссию генерала Нисселя о переброске нашего полка на западный фронт. По этому делу Неженцев командировал меня в Петроград. Я решил: в случае положительного ответа французов уничтожу разрешение и сообщу, что получил отказ. Наше место было в России. Французам мы, слава Богу, не понадобились. У Неженцева тоже отлегло от души.
В Петрограде я провел всего несколько дней. Была вторая половина октября. Чувствовалось, что переворот скоро совершится и что никто помешать этому не сможет. Облик людей на улицах страшно изменился. Лица приняли нечеловеческое выражение. Глядя на них, становилось холодно на душе и страшно за Россию. Неужели это русский народ?