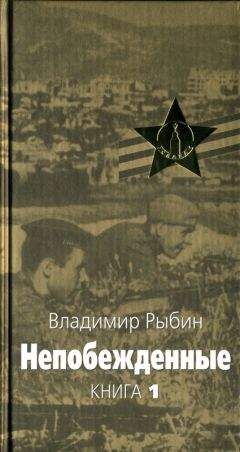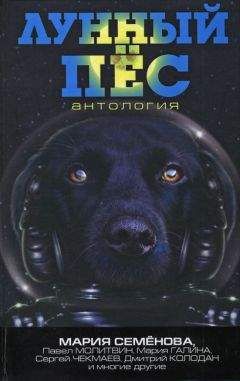Мария Рольникайте - Свадебный подарок, или На черный день
— Тише! Ради Бога, тише.
— Правильно. При мертвом говорят шепотом. Даже когда он далеко, на улице. Но этот мертвый — Борька…
— Может, он не…
— Пришел ко мне как к другу. А я откупился ломтем хлеба.
— Но, может быть, он только ранен.
— Он — как к другу. А я — ломоть хлеба…
— Господи, да не говори ты так!
— Как я должен говорить? Борьку убили. Понимаешь, убили!
Отец не ответил. Прислушивается.
— Не беспокойся, папа. Они уже прошли.
— Кто?
— Патруль. Те двое, что его убили. И я сейчас выйду.
— Куда?
— Туда, к Борису.
— Нет, лучше я.
— Я сам должен…
— Но я скажу тебе правду. Честное слово, правду.
— Я сам должен… И если он живой, приведу. Мама его перевяжет. Спрячем в моем укрытии. Я сам должен.
Но открыть дверь и двинуться с места было трудно. Очень трудно…
X
Аннушка вздохнула. Знал бы Даня, как она хочет поверить в его объяснения. Боренька потому не пришел сюда, что не хотел лишний раз рисковать ни собой, ни ими. И правильно сделал: какой смысл приходить, если все равно не собирался здесь оставаться, как он говорил, отсиживаться. И Даня опять, в который уже раз за эти дни, принимался пересказывать ей их разговоры.
Аннушка слушала. Она уже знала их наизусть. Но Даня повторял Боренькины слова, некоторые почти его голосом. Поэтому она старалась не замечать, что иногда в этих пересказах появляются новые подробности. А еще потому она готова была бесконечно их слушать, что чувствовала — успокаивая ее, Даня успокаивал и себя.
Она очень хотела верить. И хотела, чтобы Виктор с Алиной и Нойма тоже поверили. Но на душе было… Ох, как было на душе…
В первые ночи она все ждала. Прислушивалась. Если бы не боялась выдать свое беспокойство, стояла бы у двери. Потому что не может такого быть, чтобы Боренька не пришел, хотя бы совсем ненадолго, только попрощаться. Понимает ведь, что теперь, когда расстаются…
А может быть, не пришел именно для того, чтобы не прощаться? Это раньше, когда выходил из дому ненадолго — на лекции, к товарищу или в кино, — не страшно было бросить матери: «Я пошел», сказать, когда вернется. А теперь… Теперь не получилось бы прежнее: «Я пошел!» Тем более, что не может он сказать, когда вернется.
Когда она поняла, пришлось понять, что он не придет, оказалось, что прислушиваться и ждать его было легче, чем представить себе, что у Бореньки в руках оружие. Когда он был маленький, у него даже игрушечного пистолетика не было. И у Виктора не было, — Даня говорил, что у детей не должно быть игрушек, которые могут пробудить жестокость.
А теперь…
Она же ничего не говорит. И понимает Бореньку. Не может молодой парень сидеть здесь, с ними, когда кругом такое. А что маме страшно… Так ведь и у тех ребят, которые на фронте, и у Боренькиных товарищей, с которыми он теперь, тоже есть матери. Если он не пришел попрощаться, опасаясь, что она будет отговаривать, то зря. Не стала бы она его отговаривать. Понимает.
Господи, ну что это за время, когда и отпускать от себя страшно и удерживать нельзя.
Надо радоваться, что остальные дети — Яник с родителями и Нойменька — здесь, пусть в этом темном заиндевевшем подвале, а все-таки не в гетто. Но радоваться трудно. Тревога за Бореньку не дает… И плакать нельзя. Получится, что она его уже оплакивает.
Только один раз не выдержала. Яник сидел между нею и дедом. Виктор часто подсаживает его к ним. Грех говорить, но и это не помогает.
Что теперь может быть лучше, чем прижать к себе Яника. Укутанный поверх шубки еще и в одеяльце, в двух шапках, иногда еще ножки обмотаны рюкзаком, сидит он между ними, и они с Даней — то один, то другой — шепчут ему сказки. Раньше, даже в гетто, оттого, что там все-таки еще было где двигаться, побегать, он не очень любил длинные сказки, не хватало терпения дослушать до конца. Теперь только успевай их вспоминать. Или придумывать. Особенно он любит сказки про хорошего мальчика, которого тоже звали Яником. И вот, когда она рассказывала, как тот Яник поскакал на своей деревянной лошадке, малыш очень удивился: «Как же лошадка скакала, если она деревянная?»
В одно мгновенье время унеслось вспять, когда Боренька был такой же маленький. Он плохо ел, без сказки не накормить было. Сколько она их тогда напридумывала! О птицах, зверюшках, а когда вот эту, про деревянную лошадку, придумала, Боренька серьезно так сказал: «Деревянные лошадки не могут скакать. Они не настоящие». Вспомнила и не выдержала… Яник, доброе сердечко, тоже заплакал. Всех переполошил. На расспросы, почему он плачет, где болит, он только мотал головой: «Не болит. Но бабушка плачет». Она, конечно, сразу перестала, Виктор взял его к себе, принялся играть с ним в его любимые «отгадайки», но Яник еще долго всхлипывал.
С тех пор она остерегается лишний раз вздохнуть. Разве что когда делает дыхательную гимнастику. Честно говоря, она ее и делает только, чтобы не огорчать Даню и хоть немного повздыхать.
Он и разную другую заставляет делать. Главное — ходить. Но только ночью, когда это не так опасно. Правда, и заставлять не приходится. От сидения и лежания целый день все так затекает, что каждый уже ждет своей очереди походить. Жаль, что ходят мало, чередуясь и только по двое. Один идет от окошка к двери, другой — от двери к окошку. Хорошо, что иногда Даня сам нарушает этот порядок и идет рядом с нею. Даже под руку ведет, как когда-то. Особенно, если вьюжная ночь. От ветра жесть за окошком обо что-то бьется, и можно себе позволить немножко поговорить. Шепотом, но все-таки… В остальное время, если не считать перешептываний с Яником, они молчат.
Оказывается, не так легко это — все время молчать. Даже Даня признался, что «быть самому себе собеседником порядком надоело». Ей не то чтобы надоело. Просто хочется по привычке что-нибудь сказать, о чем-нибудь спросить. А уж как тянет поговорить с детьми…
Но она, боже упаси, не жалуется, — все-таки они не в гетто, живы, вместе. Знать бы еще, где Боренька…
Нет, она ни на что не жалуется. Это мадам Ревекка, кажется, не очень довольна. Думала, что Даня нашел что-нибудь получше? Спросила бы у Марка, прежде чем грозить ему. Правда, там, в гетто, и для нее главным было — вырваться. А уж куда — казалось неважным. Это теперь, когда страх немножко отпустил, сильнее мучает холод и голод. Снега они едят больше, чем хлеба… Правда, и снега Даня дает мало, чтобы окончательно не замерзли. А у мадам Ревекки к тому же застарелый ревматизм. Что и говорить, плохо ей.
Даню перед войной тоже мучил ревматизм. Теперь, говорит, забыл о нем. А что другое он может сказать?
Между прочим, в том, что здесь нельзя разговаривать, есть и польза, — Виктор не отчитал Марка за мадам Ревекку. Наговорили бы друг другу бог знает что. А вообще Марк, если уж на самом деле никак было от нее не отвязаться, мог бы ей все рассказать на два дня позже, когда Нойма уже была здесь.
Но что толку сердиться? Марка все равно не переделаешь. Никого не переделаешь, особенно если человек сам этого не хочет. Был бы немного ласковей с Нойменькой, они с Даней на остальное закрыли бы глаза.
И на мадам Ревекку не надо сердиться. Чего человек не сделает, чтобы спастись. Может, она только пугала Марка?
Даня говорит, что за ее порядочность он бы не поручился. К сожалению, он прав. Видела же, что они с себя последнее снимают. Виктор остался без теплого свитера, Алина отдала вязаную юбку, Нойменька отпорола меховой воротник от пальто. Хорошо, что за него и хлеба дали, и два больших куска гречишника, и восемь брюквин.
Дай Бог их спасительнице здоровья. Добрая она, эта женщина. Очень добрая. Не всякая бы стала из-за них, совсем ей чужих людей, так рисковать. Увидеть бы ее, сказать, что если у каждого из них еще осталось что-то в исстрадавшейся душе, так это благодарность. И что они понимают, как ей страшно.
А ведь даже не знают, как ее зовут. Даня не говорит. В самый первый вечер, еще в гетто, когда он рассказал, что, кажется, нашел женщину, которая, может быть, поможет им спрятаться, не назвал ее имени. И потом, когда волновались, что она так долго не дает ответа, и даже когда наконец пришел с доброй вестью, что она согласилась, и повторял ее объяснения, как найти этот почти заваленный лаз, все равно говорил только: «Эта женщина предупредила» или: «Наша спасительница сказала».
Он прав. Зачем им знать, как ее зовут? Если немцы, не дай Бог, их здесь обнаружат и начнут допытываться, кто их сюда пустил, кто приносил еду, и еще хуже — если у нее на глазах будут избивать Яника, Нойму, Даню, а она будет знать имя, то может не выдержать.
Не надо думать, что их найдут. Подвал под развалинами. Жильцы соседних домов, которые его тогда разграбили, давно о нем забыли, а немцам и в голову не придет, что под горой руин могут быть живые люди.
Все-таки надо было вчера уговорить Даню, чтобы вынес в тайник ее кофту. Пусть бы мало за нее, старенькую, дали, но что-нибудь ведь лучше, чем совсем ничего…