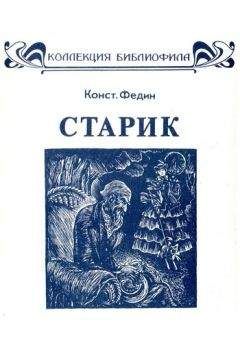Александр Лебеденко - Тяжелый дивизион
Только в три часа прекратили стрельбу. Разведчики двинулись к немецким окопам.
— Все в кашу! — хрипло кричал Кольцов в трубку.
Где-то за лесом водопадом свергались частые разрывы, образуя отчетливую линию звуков.
Немецкие батареи открыли заградительный огонь.
В четыре опять ураганный огонь. Проволочные заграждения еще были местами целы.
На орудия пришлось бросить большие мокрые тряпки. Они дымились и, быстро высыхая, становились горячими и ломкими, как прогоревшее железо.
К восьми огонь несколько утих.
Батареи получили задание продолжать всю ночь методическую стрельбу по своим целям. На точке наводки вокзальным огоньком повис красный фонарик.
Андрей испытывал теперь то же, что пассажиры быстроходного автомобиля, которым из-за аварии пришлось пересесть на грузовик, когда психологическая инерция все еще стремится оторвать тело от медленно движущейся машины.
Теперь на срезе пня лежали часы, Андрей сидел на бревне и каждую минуту подавал знак одному из орудий. Тяжелые снаряды приобрели теперь отдельные голоса, и только легкие напоминали прежнюю, несколько замедленную барабанную дробь гигантов. Ночью гаубицы полыхали пламенем, дорога шумела колесами, и временами казалось, что тысячи огнедышащих паровозов пробегают по лесу, как по стрелкам большой станции, которая распределяет их по всем направлениям.
Номера получили возможность отдыхать в очередь. Плечи солдат немели, ныли от боли; руки, весь день таскавшие снаряды, дрожали, выплескивая чай из жестяных и фаянсовых кружек. Кружка бесила своей неприятной, неожиданной после снарядов легкостью. Некоторые хлебали из бачков, в которых неприятно застыл еще дневной суп. Андрей отказался идти в палатку, и Мигулин опять принес бутерброды и чай.
Кольцов вызвал Андрея к проводу в полночь. Захлебываясь и горделиво хрипя, он рассказал, как вспахала батарея свой участок, как точна была его, кольцовская, пристрелка, как сорокадвухлинейные заставили замолкнуть германские батареи, как ходили разведчики к немецким окопам. Кое-где все еще не была сбита проволока, и из разбитых, казалось, гнезд по разведчикам ударили пулеметы.
Сейчас ночью пойдет вторая разведка из добровольцев. Утром — опять ураганный огонь.
В три часа ночи загудел телефон. Кольцов приказал немедленно открыть ураганный по основным целям. В ту же минуту загрохотали соседи. Опять поднялся ад, который на этот раз перенесли, казалось, в большой темный погреб.
Легкие батареи из-за спешки больше не вкладывали пламягасители в заряды, и пламя рвалось и гуляло над орудиями, над лесом, как подхваченные вихрями из-под земли красные флаги демонстрации.
В шесть утра пошла разведка. Кольцов сообщил с наблюдательного, что первая линия германцев пуста, исковеркана, разбита и не может больше служить опорой ни врагу, ни нам.
Перцович ушел с разведкой и установил телефон в полуразрушенном каземате германской траншеи.
К утру огонь германской артиллерии вышиб разведчиков из разбитого окопа.
С девяти утра шел медленный методический обстрел германского тыла.
В двенадцать — ураганный по второй линии.
В четыре часа обволокло дымом четвертую гаубицу. Люди бежали во все стороны, закрыв глаза руками. Чьи-то ноги бились у края дымного облака…
Снаряд, разорвавшись в канале, разворотил тело орудия, отогнул стальной щит, как сыгранную карту, и снес часть колеса. Гаубица стояла теперь, задрав неповрежденный край щита кверху и припав на одно колено.
Через два часа на ее месте была новая, присланная из армейского запаса…
Даже солдаты были огорошены такой быстротой. Так еще никогда не бывало. Давно ли вышедшее в тираж орудие заменялось только после многих месяцев переписки и канцелярской волокиты, доходившей до штаба фронта!
В семь вечера батарею огласили крики. Так кричат в операционных полевых госпиталях, когда не хватает морфия или не действует хлороформ.
Русский восьмидюймовый снаряд, ударившись о ствол сосны, преждевременно разорвался перед батареей. Часть осколков пропорола палатку, в которой пили чай приехавшие из передков со снарядами ездовые. Кононов, чернокудрый цыган, беспечный балагур, лежал с разорванным животом. Медлительный и мягкий, как мешок с мукой, Матюшенко был ранен в ногу. Еще одному ездовому, Козлову, оторвало два пальца руки.
Кольцову доложили о случившемся. Он крикнул в телефонную трубку:
— Огонь!
Андрей поднял руку. Четыре наводчика дернули шнуры.
Красный крест на сером брезенте санитарки, покачиваясь, уплывал на дорогу.
День закончился в грохоте ураганов стали. Вечерние тени смешались с дымным облаком, которое ползло по лесу.
Ночью — опять стрельба по часам, размеренная, как работа медлительного, тяжелого молота.
Страница записной книжки стала памятником этого замечательного дня. Дождь оставил на ней фиолетовые химические пятна. Карандаш, срываясь с аккуратной колонки цифр — то ли грянул в уши выстрел, то ли германский разрыв заставил вздрогнуть пальцы, — начертил крючки и запятые, как будто книжка после артиллериста попала в руки ребенка.
Колонка цифр бежит по странице сверху вниз. Это какой-то гроссбух капиталистической фирмы. Вот столбик подчеркнут дважды. Это умерла одна из гаубиц. Наследница приняла дело на ходу…
Говорить Андрей больше не в состоянии, но странно — не слипаются глаза. Нервы. В голове шум; он больше не вырастает, не уменьшается с ходом стрельбы. Голова шумит ровно, своим собственным шумом, как погреб, у стены которого несется быстрая, ровная река. Шум помогает. Он сам по себе — какой-то суррогат мысли. Потому что настоящей мысли нет. О чем думать колесику мясорубки, у которой пока еще исправно работают винт и ножи?
Из тыла к вечеру второго дня привезли почту. Очевидно, за пределами леса жизнь ступает шагами почтальона, стучит колесами поездов, люди зевают, ложась спать…
По почерку — письмо от Елены. Но нельзя было улучить минуту… А главное, нельзя было читать ее письмо в этом механизированном аду.
Ночью лежал на досках — принес, конечно, Мигулин, чтобы прапорщик не ложился на землю, — и по часам следил за стрельбой. Номера спали тут же на земле, подостлав шинели.
Утром лес взорвался раскатами. Этот новый хор был не похож на предыдущие два дня.
Это били германцы.
Снаряды ложились немного впереди, вдоль дороги.
Осколки свистали среди ветвей, щелкали по сучьям, ударяли в щиты орудий.
Солдаты прятались в окопике, иногда высовывая наружу робкие головы.
Только наводчики и третьи номера оставались у гаубиц.
Разрывы ушли к опушке, но над лесом застрекотал самолет. Германские машины шли низко, словно желая крыльями пригладить вершины. Сквозь стрекот пробивался стук не то своих, не то аэропланных пулеметов. Выстрелы гаубиц отсчитывали теперь медлительное время.
В восемь — ураганный.
В девять — перенос огня на третью линию.
Атака.
Наблюдательный кричит время от времени:
— Наши во второй линии!..
— Заняли всю вторую!..
Значит, наступление состоялось!
— Перенести весь огонь по тылам! — кричит кольцовские слова телефонист.
Значит, фронт прорван?
— Легкачи снимаются! — кричит с дороги батареец.
По дороге упряжками скачут артиллерийские кони.
Кольцов кричит:
— Пошлите в передки, чтобы были наготове!
Волнение охватывает всех людей на батарее.
Вестовые сами, без приказа, собирают офицерские вещи.
Трехдюймовки затихли. Теперь только тяжелые перекатываются по небу. По дороге вскачь летит казачья сотня.
Кольцов кричит:
— Усилить огонь!
Гаубицы смотрят в зенит, — они бьют на пределе.
Значит, немцы уходят? Победа!..
Но огонь опять переносится на вторую линию.
Ничего не понять. Чем же кончилась атака?
Кольцов неистовствует на пункте. Телефонист, забывший за дни боя революцию и приказ № 1, с воспаленными глазами и неуверенными, рабскими жестами, с дрожащим голосом, как в зеркале, отражает кольцовскую истерику.
Кольцову кажется, что батарея недостаточно быстро и часто посылает свои бомбы в тыл врагу.
А между тем фейерверкеры все по очереди уже подходили к Андрею, докладывая, что тела орудий перегрелись и они боятся, как бы не случился преждевременный разрыв в теле орудия. Снаряд входит в замок, как в печь. Андрей щупал пальцами раскаленные жерла, тучные, ставшие маслянистыми округлости казенных частей и едва успевал к телефонному окопику, чтобы по требованию Кольцова снова кричать:
— Огонь!
Германцы жестоко били по лесу. Казалось, до сих пор они сознательно копили энергию для третьего, решающего дня. Артиллерийский огонь гулял над брошенными окопами, создавая сплошной, непроходимый занавес. Потом вдруг он перешагнул через русскую линию и ливнем гудящей стали понесся над резервами в глубь леса, к артиллерийским позициям…