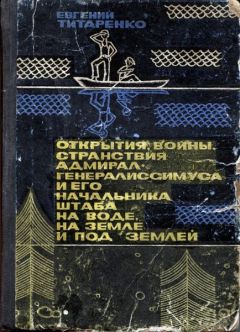Валерий Поволяев - Русская рулетка
— Пока нет.
— Так выясняйте, выясняйте же!
— Команды такой не было.
— А собственной сообразиловки что… не хватает? — Семёнов покрутил пальцем у виска. — На нуль всё сошло?
— Нет, не сошло.
— Тогда действуйте. Очертите круг людей, входящих в организацию, выясните фамилии, попробуйте добыть программу, не сидите сиднем! Действуйте! — Семёнов раздражённо стукнул кулаком по столу, на котором около письменного прибора стояла цинковая пластинка с прикреплёнными к ней самодельными ножками — изображение Ильича, читавшего газету «Правда», — это был подарок от типографских рабочих, письменный прибор не шелохнулся, а пластинка с изображением вождя подпрыгнула ногами вверх и завалилась набок. Семёнов недовольно шевельнул усами, погасил злой огонь, зажёгшийся в глазах, сказал: — В общем, не теряйте революционной бдительности! — отвернулся в сторону. Показалось, что за окном, в сиреневых кустах, защёлкал, запел соловей.
Но соловью петь было рано, соловьи будут заливаться, устраивать роскошные концерты в мае, во второй половине месяца, а пока в сиреневых кустах могут только вороны каркать. Когда он это понял, начсо в кабинете уже не было, ушёл беззвучно, словно не по скрипучему паркету передвигался, а по воздуху.
Конечно, организация, которую возглавляет этот профессоришко, — тьфу, козлиный помёт, насаженный на деревянную палочку, максимум, что может совершить эта так называемая контрреволюционная организация — запалить костёр из старых газет и пары дырявых галош где-нибудь во дворе старого дома, и всё, но Петроградской губчека надо обязательно раскрыть какую-нибудь крупную белогвардейскую структуру, показать Москве, что тут тоже могут работать, тоже сидит народ, не лыком шитый, а для этого нужно громкое дело, такое, чтобы все ахнули и затряслись мелкой дрожью.
Годится для этого «Петроградская боевая организация» или нет — вот вопрос… На него Семёнов пока не мог ответить.
В организации, как теперь понял Семёнов, состоят одни интеллигенты да домохозяйки. Ещё, может быть, несколько служанок, — а это те же домохозяйки, мастерицы воровать на рынке семечки. Что же касается интеллигентов, то эти люди ни на что не были способны, и Семёнов откровенно презирал их. Говоруны, пустые пузыри, наполненные воздухом, трусы, смотрят друг дружке в глаза, целоваться лезут, обнимаются, а в руках держат по ножику, чтобы всадить лезвие в своего брата по социальному сословию, либо вообще нанести смертельную рану. Предают, переворачиваются в разные стороны, как хотят, будто оладьи на сковородке, сегодня служат нашим, завтра вашим, послезавтра вообще ни тем, ни другим, принципы явок меняют, как бумагу для подтирания, подлаживают, подгоняют их под свои одежды — костюмы разного цвета и кроя — и болтают, болтают, болтают безумолку. И всё впустую.
Конечно, Ильич тоже интеллигент, но он — интеллигент другой закваски… Так что Семёнов хорошо представлял, что являет собой профессор Таганцев.
Совсем иной коленкор — военные. Герман и Шведов — боевые офицеры, прошли войну, знают, как уязвим человек и что надо сделать, чтобы он умер молча и быстро, даже не копахнувшись. Эти люди — не чета гнилым плаксивым интеллигентам, они опасны, любому двуногому свернут голову набок и засунут под мышки.
Надо собрать побольше материала на военных членов организации и сообщить в Москву Уншлихту. А вдруг они собираются совершить покушение на товарища Ленина, а?
Эта мысль пробила Семёнова холодом, он нагнул голову, будто шёл против дождя и ветра, сжал пальцы правой руки в кулак.
— Этого мы не допустим никогда! Ни-ког-да, — членораздельно, с угрозой произнёс он.
В это время в дверь просунул голову дежурный помощник, увидел напряжённое лицо председателя и поспешно исчез — когда на лице у Семёнова появлялось такое выражение, с ним лучше не говорить.
Семёнов, с силой вдавливая пальцы в кожу, потёр лоб — не мог прийти к окончательному решению насчёт «Петроградской боевой организации», не знал, что с ней делать и куда её причислить — то ли это обычный кружок кухарок, любительниц посудачить, стоя над керосинкой, то ли серьёзная контрреволюционная организация. От решения этого будет зависеть, как обойтись с кухарками и их хозяевами — любителями яичницы, и к какому берегу их прибить, — искусственно, естественно, а уж берег сам решит, какой приговор им вынести.
Впрочем, во всех случаях жизни Уншлихт обязательно пришлёт группу следователей, а те быстро разберутся, виноваты ли кухарки с яйцеедами или нет.
Глава шестая
Костюрин нарвал в лесу ранних ландышей и ещё каких-то синевато-белых, с жёлтыми пятаками в серединке цветов — похоже, это были подснежники, росли они в низинных местах, в которых можно было до сих пор найти снег, чёрный, как земля, завернул цветы в обрывок старой газеты и привёз в Петроград.
С трудом нашёл театр, о котором ему говорила Аня Завьялова. Располагался театр в бывшем винном складе одного купца со сложной грузинско-персидской фамилией, склад был большой, гулкий, и имел всего два длинных узких оконца, похожих на щели — прорези какой-нибудь древней крепости, железные ворота запирались на огромный кованый засов.
Охраняла ворота усатая тощая бабка, похожая на запорожского сечевика, стрельнула в Костюрина недобрым чёрным глазом — ну будто из винтовки пальнула:
— Чего нада? — Командирская форма Костюрина её не смутила, хотя почти всех людей, что общались с ним, делала более вежливыми. — Спектаклев у нас сегодня нету, так что извиняй, товарищ начальник.
— А я не на спектакль, бабуня, — бодро ответил Костюрин, вскинув в руке букет цветов, обёрнутый газетой.
— Если не на спектакль, то куда?
— Я к Ане Завьяловой.
— Это к той, что на сцене пыльные фанерки переставляет?
— Ну-у… наверное, — неуверенно ответил Костюрин.
— Анька здесь, — старуха задумчиво пощипала усы, — вроде бы никуда не уходила. Как она пришла, я видела, а вот как ушла — не видела, значитца — тут.
Старуха окинула его строгим орлиным взглядом, словно бы хотела понять, что у Костюрина находится под гимнастёркой, под ремнём и под диагоналевыми брюками, заправленными в яловые сапоги, осмотр удовлетворил её, и старая карга разрешающе махнула скрюченным от многих простуд пальцем:
— Проходи!
Аню Завьялову он нашёл в подвале — этот огромный склад, основательно пропахший вином, имел роскошный подвал — зимой тёплый, летом холодный, поделённый деревянными переборками на несколько отсеков. В одном из отсеков, отведённом под костюмерную, Аня и находилась, штопала старое бархатное платье жемчужного цвета… Только поношенный бархат может иметь такой роскошный королевский цвет.
Дверь в отсек была открыта, и Костюрин, оперевшись плечом о косяк, несколько минут стоял молча, стоял и смотрел на Завьялову. Аня не засекла его шагов, не услышала, как Костюрин подошёл.
— Аня! — шёпотом позвал Костюрин, почувствовал, как у него громко, рождая звон в висках, застучало сердце.
Девушка повела одним плечом, будто ей что-то мешало, сковывало движения, но головы не подняла — просто не услышала Костюрина, так была увлечена работой.
— Аня! — прежним неразличимым шёпотом позвал Костюрин, расстегнул крючок на отложном воротнике гимнастёрки — сделалось трудно дышать, — одновременно он ощутил, что в нём родилась некая незнакомая робость, раньше такого с ним не случалось.
— Господи, — Аня подняла голову, отложила в сторону платье, сдула косую прядь волос, свалившуюся ей на нос, — простая штука вроде бы, а родила в душе Костюрина желание обязательно защитить эту хрупкую девушку. — Я уж и не думала, что вы сумеете найти наш театр…
— Как видите, нашёл.
— Чаю хотите? У меня есть немного настоящего чая, родители из Ельца прислали.
— Вы что, из Ельца?
— Ну да. Там родилась. И гимназию там окончила, — Аня встала, стряхнула нитки с подола. — Вы даже не представляете, как хорошо, что вы пришли.
Костюрин встревожился:
— Анечка, вас никто не обижает?
— Нет, что вы… — засмеялась та белозубо, открыто. — Тот, кто обидит — и дня не проживёт.
— У, какая вы грозная!
— Верно. Это я только с виду кроткая, лишнего слова сказать не могу, а на деле…
— А на деле, — подхватил её короткую исповедь Костюрин, протестующе качнул головой — ощутил неожиданно, как в нём что-то сломалось, щёлкнуло и отсеклось, будто с дерева слетела прочная тяжёлая ветка, образовался душевный порез, но порез этот был сладким, вот ведь как, боли не принёс… Костюрин вздохнул облегчённо, он сейчас мог поддержать любой разговор — главное, чтобы разговор этот был, чтобы речь текла плавно и тогда будет совсем нестрашно.
— А на деле лишнее слово сказать очень даже могу. И одно и два.
— Я очень рад вас видеть, — сказал Костюрин.