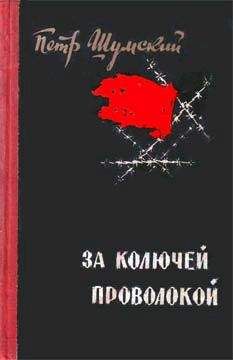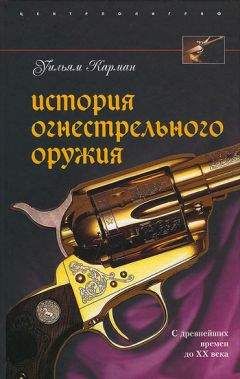Борис Лавренёв - Собрание сочинений. т.4. Крушение республики Итль. Буйная жизнь. Синее и белое
Командующий флотом вступил на палубу флагманского корабля в ту минуту, когда, отвлеченный от бомбардировки города безнадежной атакой дозорного дивизиона, «Гебен» прекратил огонь по крепости и рейду и обрушился на атакующие миноносцы. Подбив головного «Пущина» и отбив атаку, крейсер внезапно повернул на шестнадцать румбов и вышел из района минного заграждения помер три, боевые батареи которого были наконец замкнуты в это мгновение.
Адмирал Сушон не захотел больше рисковать и бросился в море на пересечку одинокому и всеми покинутому «Пруту».
Когда над «Евстафием» взвился адмиральский флаг, бой был кончен, противник исчез из вида. Командующий упустил время командовать, и сейчас его присутствие было бесполезно и на «Евстафии» и на «Георгии».
Надеяться догнать противника в море, при двойном превосходстве его в ходе, мог только сумасшедший, и при таких условиях выход флота в море отпадал, как безнадежная фантастика, к тому же еще и опасная, так как неприятельский крейсер мог набросать за собой плавучие мины и без предварительного траления фарватера нельзя было высовываться за бон.
В сумрачном молчании начальника штаба, в опущенных глазах офицеров и матросов адмирал чувствовал презрительное осуждение.
«Старая ворона… Шляпа», — безмолвно говорило каждое лицо.
Эбергард тяжело ходил по салону, смотря под ноги, и, путаясь в словах, вяло диктовал Плансону текст донесения в Ставку верховного главнокомандующего. Донесение требовало особо осторожного подбора выражений, а встревоженный мозг, как назло, не мог найти нужных, точных фраз.
В дверь салона осторожно просунул голову флаг-офицер, мичман Рябинин.
Голова была маленькая, как у петуха, с петушьим коком. Волосы синевато блестели, отлакированные бриолином. Никакая катастрофа не могла помешать мичману привести голову в состояние обычного лоска. Даже оторванная снарядом, она должна была бы оставаться образцом высочайше утвержденной мичманской головы для всего обер-офицерского состава.
— Ваше превосходительство, — голос флажка тянулся вязко, как стынущая патока, — начальник охраны рейдов просит экстренно принять.
Командующий остановился на полушаге. Лицо его мгновенно побурело, он поднял руку к воротнику кителя и просунул в него палец, как будто хотел разорвать стянувшую шею петлю. То, чего он больше всего страшился сейчас, надвигалось. Оно воплощалось в коренастой фигуре начальника охраны рейдов. Адмирал многое отдал бы, чтобы отдалить минуту этой встречи, но отказать было нельзя.
— Просите, — выговорил он, с трудом разжимая губы.
Взглянул на Плансона. Начальник штаба сидел, устремив глаза в блокнот с видом чрезвычайного внимания и заинтересованности текстом донесения, и командующий, поняв, зябко передернул плечами.
«Продаст… За пятак продаст», — подумал он и беззвучно грубо выругался.
Разве мог этот исполнительный, безличный чиновник понять бурю в душе адмирала, разобраться в сложных переплетах адмиральской мысли, в трагедии, пережитой начальником!
Командующий знал: ему никогда не простят, что он допустил неприятельский крейсер разгуливать в течение десяти минут на незамкнутых минных полях. Что бы ни было дальше, это был подводный камень, на котором разбивалась его карьера. И в то же время (это было бесспорно) на его месте точно так же поступил бы любой из трехсот адмиралов русского флота.
Батареи заграждения можно было включить своевременно. Это нужно было сделать еще ночью, по получении радио о налете турецких миноносцев на Одессу. Правда, в море оставался «Прут». Это было официальным поводом оставления батарей незамкнутыми, но настоящая причина была не в этом. «Пруту» всегда можно было сообщить о вводе заграждений и предложить до выяснения обстановки укрыться в Ялте.
Отказ от пользования минными полями вытекал из непогрешимого догмата о великолепном первородстве Российского императорского флота. Это было аксиомой, символом веры, утвердившимся под арками адмиралтейства, в грузных массивах захаровских зданий, в головах адмиралов и всего офицерского кадра.
Флот российский существует для того, чтобы поддерживать российскую армию и вести совместные с ней боевые действия?
Ересь!!! Ниспровержение вековых устоев, дерзкое посягательство на незапятнанную, как кителя его офицеров, честь флота. Армия? Сброд! Не стоящее внимания месиво ничтожных пешек. Пусть оно существует — флот согласен не замечать этого неприятного обстоятельства. Но пусть дерется само по себе, в пыли, в грязи, во вшивых дырах окопов, не оскорбляя своим соседством девственную чистоту палуб. Флот недосягаем. Кастовой порукой, частоколом традиций, печатями грамот о трехсотлетием дворянстве флот отрезан от армии, от замухрышек, parvenus[34], кухаркиных детей.
Флот — это море, волнующие просторы океанов. Флот — это крылатый крест андреевского флага, не имеющий сходства со знаменами армии. Флот — это самовластие генмора.
Флот сражается на море, он владеет морскими просторами, и он не может считаться с армией.
Адмирал Эбергард давно забыл символ веры, который учил мальчишкой на уроках закона божьего, но символ веры флотский — помнил.
Непонятная медлительность в отдаче приказа о включении боевых батарей минного заграждения, раздражение адмирала, когда начальник охраны рейдов вторично напомнил ему об этой необходимости, — имели корни во флотском символе веры. Командующий знал, что план военных действий Черноморского флота на тысяча девятьсот четырнадцатый год — лихорадочный бред, плод патриотического психоза, высокий самообман. Командующий знал это потому, что сам был участником составления этого плана, изготовленного в качестве валерьяновых капель для воспаленного самолюбия империи.
Но, зная, он все же верил в невероятную возможность боя «на удобной позиции вблизи Севастополя», боя, который осенит ореолом славы андреевский флаг и седеющую голову его водителя.
Адмирал верил, что он успеет вывести флот на пресловутую позицию до подхода противника. Он верил, что с кораблями, едва нагоняющими пары для четырнадцатиузлового хода, ему удастся встретить неприятеля в море.
Эта вера была нелепа, но так же крепка, как вера дикаря в божество, обитающее в деревянном чурбане.
Адмирал полагал, что противник будет учтиво ждать русский флот в море, любезно предоставляя ему возможность желанного боя у ворот своей гавани.
Но он не учел и не мог учесть неизвестных вражеской части боевого уравнения. Он судил о противнике, исходя из своей психологии, и не мог судить иначе. Непреоборимым грузом на плечах адмирала, незримо таясь между вышитыми орлами империи, лежала всосанная с корпусных дней, выпестованная в японскую войну под крылом наместника Дальнего Востока, сухопутного флотоводца, рабская пассивность тактики, отсутствие инициативы и способности к самостоятельным решениям.
Командующий слепо шел по проторенному другими пути. Он был верным учеником целой плеяды кунктаторов, чиновников, апологетов рабской философии, вся сущность которой укладывалась в лакейскую формулу «тише едешь — дальше будешь», учеником Старка, Витгефта, Ухтомского, Рейценштейна. Как и они, адмирал больше всего страшился риска. Смертная судьба единственного боевого флотоводца, кухаркиного сына — Макарова и страшный конец тихоокеанского похода только убеждали адмирала Эбергарда в непреложности девиза пассивной обороны.
И история повторилась, как фарс. В Одессе, Севастополе, Феодосии, Новороссийске в ночь на шестнадцатое октября девятьсот четырнадцатого была повторена позорная ночь Порт-Артура на двадцать седьмое января девятьсот четвертого года.
Командующий ее флотом не мог предотвратить удар, но мог отвести его от флота и крепости. Но он не захотел этого сделать. Символ веры, аксиома флотского первородства не позволила ему этого.
Он мог, но не хотел до последней минуты включить батареи минного заграждения. Он не мог уступить высокую честь истребления врага какому-нибудь захудалому минному офицеришке, который из своей блиндированной норы нажимом электрической кнопки вырвет у андреевского флага торжественные лавры победы. На море дерется флот — и только флот имел право на уничтожение вражеского корабля. И даже если бы флот был бессилен это сделать, ничья рука не смела сделать это за него.
Адмирал Эбергард выпрямился и сурово встретил начальника охраны рейдов.
Он должен был соблюсти достоинство флота и не допустить никаких кривотолков.
Но начальник охраны рейдов был слишком взволнован, чтобы держаться в узких рамках служебного ритуала. Он выбросил залпом обжигающие слова, которые ударили адмирала в лицо, как пощечина.
— Ваше превосходительство… какое преступное упущение… Батареи включили в шесть часов сорок две минуты, а с шести двадцати трех до шести тридцати семи «Гебен» маневрировал на заграждении. Наблюдатели отметили ряд замыканий на трех магистралях… Карта курса противника…