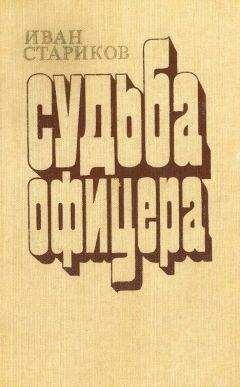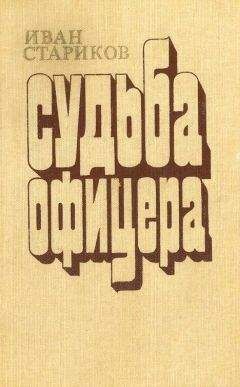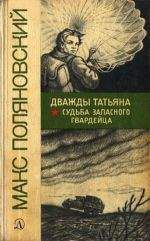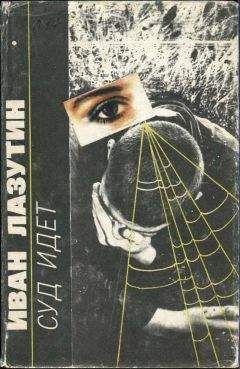Иван Стариков - Судьба офицера. Книга 2 - Милосердие
— Не бойся, я не знала, что Витя в госпитале. Ты беги, иначе нарвешься на скандал.
— Пусть успокоится! Он как сдуреет, так ничего не соображает. Пусть побесится, а я подожду Славу. Витя, ты обязательно познакомься с этой гуцулочкой.
Когда вошла Криницкая, Оленич уже почти не слушал Галю: он смотрел на Людмилу с такой жадностью, словно не видел ее вечность. Про себя он отметил, что что-то изменилось во всем ее облике: то ли щеки больше запали и поэтому удлинился овал лица, то ли плечи опустились от пережитого, и поэтому кажется, что шея стала тоньше, а фигура стала стройнее и еще изящнее.
Об этом не надо думать! Он знал и понимал, что думать об этом нельзя, невозможно для него. И не только потому, что и Гордей, и Данила Романович выработали в нем боязнь волнений, сильных стрессов, а потому что он сам интуитивно предчувствовал грозящую ему беду. Он не разобрался да и не хотел разбираться, какую опасность принесут ему обжигающие грезы об этой женщине. Можно преодолеть обморочное состояние, можно победить немощь организма и отвратить даже последний шаг к беспамятству, что ему несколько раз удавалось, но проявить малодушие и открыться ей было невозможной вещью. И поэтому он боялся того чувства, которое давно уже возникло в нем и чуть ли не каждый день разрасталось, охватывало его как пламень. Да, он боялся, что однажды она ласково даст понять, что она не сможет ничего ему дать.
Людмиле и невдомек, что сейчас творится в душе у Андрея, какие мысли возникают в голове, какие чувства переполняют его. Если бы она хоть немного знала, сколько страданий и сколько счастья она приносит ему одним лишь своим присутствием!
— Тебе. Витя, нужно быть поосторожней, — нахмурясь, предупреждала Людмила Михайловна юношу. — Старайся не встречаться с Богданом. Этот задиристый ревнивец опасен.
— Разве ты его знаешь, Виктор? — удивился Оленич.
Витя засмеялся:
— Богдан и вам знаком, капитан: помните, как он избивал меня в парке за то, что я не хотел пристать к его воровской шайке? Вы так прикрикнули на них, что они разбежались.
— Так это был он? Ну, я думаю, теперь тебе его бояться нечего: ты вон какой крепкий и сильный! — Оленич на мгновение умолк, потом задумчиво проговорил: — Да, тот день я помню…
…Восемь лет назад Андрей возвращался из Кремлевской больницы в госпиталь. Уже на станции он вспомнил, что не дал телеграмму о своем приезде и его никто не будет встречать. Вещей у него было немного — неполный вещевой мешок. Поэтому он решил, что дойдет пешком: от вокзала до госпиталя не более километра. Он выбрал дорогу через старый парк — хотел посидеть в тени деревьев, по которым соскучился за время пребывания в Москве. Старые осокори, уже тронутые первой осенней позолотой, могуче раскинув ветви, встретили его прохладой и шепотом, такими знакомыми и волнующими. Хорошо вновь очутиться в месте, где тебе радостно, где дышится легко, где чувствуешь себя точно дома, где все зовет к жизни — и мечты, и желания, и ожидания. Никогда и нигде он не ощущал такой душевной полноты. Медленно переставляя костыли, шел он по дорожке, полнясь приподнятым предчувствием встречи с милыми Криницкими, с товарищами по госпитальной койке, которые тоже живут мечтами, желаниями и надеждами, И почти никто не думает о том, что все их самые скромные желания и надежды — неисполнимы. Об этом нельзя думать, иначе можно разувериться в жизни и обязательно придешь к заключению, что даром прожил свое время.
Изредка срывались пожелтевшие листья и медленно падали на зеленую траву, искрящуюся бисером дождевых капель. Дождь, видно, прошел недавно, каменные плиты на дорожке еще темнели мокрыми пятнами, а там, где на них падал луч солнца, поднимался легкой дымкой пар. Поскрипывали костыли, изредка долетал шум проходящих по мосту автомашин, а со станции доносились гудки паровозов. И вдруг Андрей услышал детские голоса, выкрики, даже вроде послышались ругательства. Он свернул на узкую гравийную дорожку и пошел по направлению к узенькой, мелкой речушке, проходившей по границе между старым парком и молодым, посаженным комсомольцами в День Победы.
На той стороне, на самом берегу под кустом орешника, крутилась кучка малышни лет по восемь-десять. Но вот они окружили одного худенького, нестриженого мальчугана лет десяти. Высокий, плечистый паренек лет двенадцати, с длинными патлами, был, наверное, вожаком — худощавое лицо хмурое, глаза обозленные. Он размахнулся и ударил мальчика по лицу.
— Получай, гнида! — взвизгнул подросток.
Но мальчуган не заплакал, а лишь пошатнулся.
— Все равно не буду красть, — упрямо проговорил он.
— Сейчас я тебе дам еще прикурить, — процедил сквозь зубы длинный и уже размахнулся, но капитан властно крикнул:
— Отставить!
И шагнул костылями в речку. Речка мелкая, дно песчаное, но все же костыли за что-то зацепились. Оленич пошатнулся и выпустил из рук свои «ноги», еле удержался на одной ноге, взмахивал руками, ловя точку равновесия. Ребята кинулись врассыпную, и остался только тот, которого били. Он стоял и смотрел широко раскрытыми глазами на человека с одной ногой, кинувшегося на выручку и попавшего в беду. Но в какой-то миг мальчик сообразил, что надо ловить костыли, и кинулся за ними. Поймал и принес инвалиду. Оленич выбрался на берег:
— Ну, спасибо тебе, парень! — сказал Оленич. — Как звать?
— Витя. Виктор Калинка.
— Местный?
— Нет, с поезда я.
— Ясно. И откуда же ты едешь и куда путь держишь?
— Туда, где лучше.
— Убежал из детского дома?
— Да.
— Возвращаться не думаешь?
— Никогда!
— Обижают там? Здесь вот не лучше. Видишь, каждый норовит унизить тебя, заставляют заниматься плохими делами… Как же быть?
— Хочу жить сам по себе.
— Но так в жизни не бывает. Человек не может жить в одиночестве. Жизнь станет бесполезной. Ты уже достаточно вырос, чтобы понять: жить только тогда интересно, когда другие видят твое существование и замечают, какой ты человек.
— Хочу найти дом. Свой дом.
— Но ты же — сирота! У сироты дом там, где его приветят добрые люди. Тебе учиться надо, парень, вот что я тебе скажу. В детдоме учили?
— Учили.
— Читать-писать-считать умеешь?
— Да.
— Может, в ремесленное? Как ты смотришь?
— Не знаю. Может, убегу и оттуда.
— Давай так решим с тобой: завтра попробуем пробиться в ремесленное. Тут есть хорошее училище при заводе. И общежитие прекрасное. Договорились? Мне ведь тоже надо еще устраиваться. У меня тоже, брат, нет дома. Я все время живу в госпитале для инвалидов. Вот устроюсь, и займемся твоим делом. Согласен?
— Ну, раз вы тоже вроде меня, бездомного, тогда согласен. Уж вы-то знаете, что почем… Может, я вам помогу сумку дотащить до госпиталя?
— Давай, Витек, тащи. Мне и вправду тяжеловато. Я после больницы, еще не набрался сил, чтобы таскать на себе тяжести. Смотри же, завтра подходи к госпиталю. Буду тебя ждать. Не подведешь?
— Приду.
Возле госпиталя они расстались. Оленич долго смотрел мальчишке вслед и вдруг ощутил в себе потребность в этом маленьком человеке, в этой смятенной душе…
…Галя начала прощаться:
— Уже поздно, у нас еще самодеятельность. Я и так…
Вдруг дверь отворилась, и в палату вошла запыхавшаяся Мирослава:
— Галя, все тебя ждут. Меня послали… — И осеклась, увидев паренька, стоявшего между дверью и кроватью Андрея Петровича.
Галя хохотнула, заметив смущенный взгляд Мирославы, и тут же представила их друг другу:
— Славуня, познакомься: это Витя, сын Андрея Петровича.
Оленич заметил, как парень посмотрел на Мирославу заговорщицки-весело, потом приблизился к ней и, улыбаясь, протянул руку:
— Виктор.
Девушка подняла на него чуть-чуть удивленные глаза и подала свою руку, тихо прошептав:
— Чего ты? Мы ведь виделись на танцах… В парке. Два раза…
Вдруг лицо ее вспыхнуло, и она выбежала из палаты.
Галя озорно подмигнула Виктору, вышла следом за подругой.
Парень тоже стоял в полной растерянности, боясь посмотреть на Андрея Петровича.
— Витя, догони девочку. Что же ты? — спокойно произнес Оленич, словно не замечая его состояния. — Людмила Михайловна осмотрит меня.
Когда парень выбежал, Люда молча присела на стул возле кровати и привычным движением взяла руку Оленича за запястье.
— Сейчас начнет учащаться пульс, — с иронией произнес Андрей.
10
Внизу, в вестибюле, дежурила женщина лет пятидесяти, с проседью в темных волосах и с сострадательным взглядом небольших глаз. Она сидела в самодельном деревянном кресле и вышивала красным и черным манишку мужской сорочки. Когда вошел с улицы в вестибюль молодой, но большой и грузный человек, она внимательно посмотрела на него, словно хотела догадаться, кто он и что ему нужно. Вошедший держался свободно, будто в знакомой гостинице. В руках он держал довольно объемистый баул.