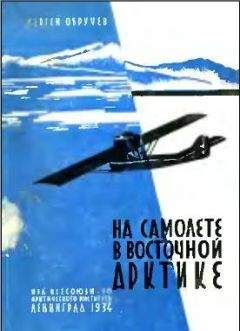Геннадий Фиш - Падение Кимас-озера
Разумеется, я пошел сразу же в другую сторону, а не в ту, куда меня вели под конвоем. Потом я сошел с дороги в лес, изменил направление и снова вышел на дорогу. Я пошел по ней на восток. Шел ночью, спал днем в стороне от дороги. В обочинах было сыро. И однажды на рассвете ко мне подошел ленсман.
— Ваш документ!
— Сейчас... — Я стал делать вид, что вытаскиваю из кармана паспорт, вытащил давно просроченный членский билет союза строителей — я ведь каменщик — и сунул ему под нос.
Он наклонился, чтобы разглядеть, и в ту секунду, когда он читал, наверно, слова: «профессиональный союз рабочих», я изловчился и сделал ему нокаут под нижнюю челюсть. Он не успел притти в себя, — я ведь не стоял над ним, как арбитр, отсчитывая секунды, — как я уже отнял у него револьвер и, одним выстрелом ранив его в ногу, чтобы он не мог побежать за подмогой для моей поимки, оттащил его подальше от дороги.
На сутки по крайней мере он был для меня безопасен. С револьвером я чувствовал себя лучше; этот маузер у меня и по сей день.
— Я предпочитаю наган, — сказал я, ощупывая свой безотказный револьвер.
— Вскоре я встал на лыжи, тоже добытые таким способом, который не поощрило бы благотворительное общество разведения канареек, а судья тем более, и продолжал на лыжах свой глубокий рейд на восток.
Я шел семнадцать дней и перешел границу в Олонецком районе. Дальнейшие мои приключения тебе, Матти, отлично знакомы, но никогда до сих пор я не думал, что проклятые плечи могут так болеть от потертости.
Было уже два часа.
Пришла разведка, несколько разочарованная: по ее словам, в деревне не наблюдалось не только неприятельских крупных сил, но даже постов.
Все это противоречило и нашим предположениям, и показаниям пленных, и желанию уничтожить неожиданным налетом центр.
Да и существовало ли само движение?
Оторванные от всего мира, мы не знали, что в те дни противником у Андроновой горы был почти уничтожен красный батальон с трехдюймовками.
Мы находились в очень глубоком тылу.
Антикайнен решил послать вторую разведку.
Отряд оставался в лесу.
Чтобы не привлекать ничьего внимания, костра не раскладывали. Было очень холодно.
Начиналась карельская таежная вьюга. Снег попадал за шиворот, ветром его швыряло в глаза. Плевок шлепался на снег уже ледяшкой.
За хлопьями бурана в черноте январской ночи в двух шагах нельзя было отличить человека от сугроба, наметенного около ели.
Вьюга заносила лыжный след через несколько минут после того, как он был проложен.
Разведка долго не возвращалась.
В свисте острого ветра мне слышались отдаленные шумы стрельбы. Неужели наша разведка завязла и погибла?
Может быть, мы еще можем спасти ее, а стоим без движения здесь, в глухом лесу, и замерзаем без всякой пользы для дела!
Антикайнен обошел отряд, за ним шел Хейконен. Он сказал мне:
— Если через двадцать минут разведка не придет, мы налетаем на деревню.
Я пытался пробуравить тьму метельной ночи, бросавшей в глаза острый слезоточивый снег. Мне даже казалось, что я вижу очертания деревенской колокольни.
— Развертываться! — подавал уже команду Хейконен, когда неожиданно, как бы вырастая из наметенных сугробов, явилась разведка.
Разведчики отрапортовали, что никаких следов неприятеля ни в деревне, ни около нее не замечено. Разведчики обошли почти все избы. Прошли даже по главной улице и ничего похожего на лахтарей не обнаружили.
Весь отряд, каждую секунду остерегаясь попасть в заранее устроенную засаду, пошел в деревню, разбившись на три колонны.
«Теперь бы теплую русскую печь или хотя бы полати в курной избе, но только в закрытом помещении», — мечтал я, с трудом передвигая ноги.
Сведения разведчиков о полном отсутствии в деревне врагов произвели свое неожиданное воздействие.
Я и еще многие ребята, которые последние километры шли на нервах, сразу размагнитились.
Сразу почувствовалась непреодолимая, свинцовая усталость в ногах, сразу тяжесть мешка за плечами стала в десятки раз тяжелее, и потертость плеч чувствовалась сильнее, чем ожоги.
И я дремал на ходу, — не помню, как это случилось.
Помню лишь сквозь дымку оборванного полусна, как я лежу на снегу и хочу спать, помню наклоненное надо мной круглое, скуластое лицо Тойво, иссеченное мелкими, острыми снежинками.
— Матти, вставай, надо итти, выспаться успеешь в Реболах, так ты замерзнешь.
Я иду, помогая себе лыжными палками, подбородок мой то и дело ударяется о ремень винтовки.
Никакие усилия не могут расклеить моих плотно слепившихся век. И я отчасти даже доволен этим.
В уши рвется мне свист вьюги, и я шепчу себе:
— Матти, самое главное — дойти; дойти — самое главное в этом деле. Матти... Отстанешь — замерзнешь наверняка или тебя загрызет волчица. Плохо бывает, Матти, когда грызет волчица — сначала один палец, потом другой, потом всю руку и доберется до сердца...
И так в полусне шел я на лыжах, как всадники спят в своих седлах, на секунду раскрывая глаза, когда оступится конь.
Как мы вошли в деревню — не помню.
Разведка была права.
Лахтарей в деревне не было.
Помню свои отрывочные мысли: почему почти не видно местных жителей?
Помню свое удивление формой колокольни.
Она оказалась совсем другого вида и совсем в другом конце деревни.
Проснулся я от резкой боли в плече.
Передо мной стоял товарищ Хейконен и похлопывал меня легко по плечу.
Я вскочил, не удержавшись от гримасы боли.
— Что, и у тебя плечо стерто? — покачал головой командир.
Было уже совсем светло.
Буран прошел, и благополучное, холодное солнце сквозь замерзшее окно избы ложилось на пол ярко-желтым квадратиком.
Левое плечо мое было натерто до крови.
За ночь кровь присохла, и отдирать рубашку от струпьев было очень неловко и больно.
Синий шрам глубокой потертости на плече и по сей день очень интересует моего семилетнего сына Лейно, названного в память о погибшем товарище.
Но тогда шрам был багрово-красным и сочился живою кровью.
Так было не у одного меня.
Мне было, пожалуй, еще легче, чем другим: у меня были в целости ноги — ни одной кровяной мозоли, а также ни одной дыры на валенках.
Кожи на стертом месте плеча уже не было, открытое мясо натиралось суровым полотном рубахи.
— Ты хорошо спал всю ночь, Матти, теперь ты пойдешь в большую круговую разведку. Лахтари ушли из деревни часов за пять, за шесть до нашего вступления; их было триста человек.
Штаба здесь уже нет очень давно. Некоторые говорят, что он находится в Кимас-озере, другие, что поблизости, в одном из окрестных селений.
Жителей в селе тоже почти нет.
Часть мобилизована лахтарями в бандитские отряды, часть угнана с лошадьми в порядке гужевой повинности, а другие — среди них много женщин — попали на лесоразработки.
Реки отсюда текут в Финляндию, и вот лесопромышленники во-всю стараются, чтобы к весне заполучить лес за цену пяти пальцев. Это все, что удалось узнать от оставшихся жителей.
В какую сторону ушли отсюда лахтари, — неизвестно, следы их замела вчерашняя буря.
Мы будем здесь сутки, радиус твоей разведки невелик — пятнадцать километров. Так что, когда ты возвратишься, мы еще будем здесь. Можешь итти.
И я пошел, оставив часть поклажи в избе.
Я шел в разведку на северо-запад вдоль по берегу. Реки отсюда текут в Финляндию.
Солнце освещало мой путь. Белый балахон хорошо скрывал меня от непрошенных взглядов.
«Если бы я не знал, что иду по этой тропе, то сам бы себя не заметил», — попробовал я пошутить сам с собой.
Но здесь концы моих лыж уткнулись во что-то твердое, черневшее из-под снега.
Я пригляделся, палкой сбил снег.
Передо мной, несомненно, лежал труп; вблизи от этого трупа лежало еще два подобия человеческого тела.
Это было в двух километрах от деревни. Черепа у всех были проломаны, казалось, обухом топора. У убитых брюки были спущены, сапоги сняты.
Трупы были заморожены, и поэтому трудно было разобрать, давно ли они лежат так. Во всяком случае было ясно, что не меньше нескольких дней.
Надо было итти дальше.
Я налег на палки, стал нажимать. Отдых одной ночи сказывался.
Так я шел полчаса спокойно, без всяких встреч, но вскоре я услышал внизу по реке женский голос, напевавший заунывную финскую колыбельную песню, такую, какой убаюкивали нас наши матери в раннем детстве.
Я остановился на секунду.
По льду замерзшей реки навстречу мне шла женщина. Она несла в руках сверток, который укачивала и пыталась согреть своим дыханием. За ней, цепляясь за подол, дыша на свои пальцы, всхлипывая, тащился мальчик лет десяти.
— Стой! Куда?