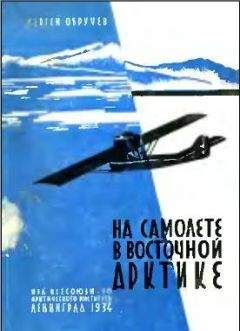Геннадий Фиш - Падение Кимас-озера
Даже Антикайнен с трудом удерживал себя от сна.
— Товарищ командир, деревня свободна, — отрапортовал я и пошел обратно.
Разбуженный отряд медленно пошел в деревню.
Когда я вошел в избу, Хейконен и Лейно аппетитно уплетали большую яичницу-глазунью.
Я присоединился к ним, но едва успел отправить в рот блестящий от масла, янтарный, поджаренный желток, в горницу вбежала девчонка лет двенадцати и бросилась прямо в кухню к хозяйке.
Несколько секунд за перегородкой был слышен приглушенный шопот.
Полногрудая хозяйка выпорхнула в нашу горницу, подбежала к оконцу и, взглянув в него, замерла. Затем медленно, побледнев, — жар от плиты быстро сошел с ее лица — подошла к глухонемому и дернула его за рукав. Она подвела его к окну.
Глухонемой замычал, и в этом мычании было что-то жуткое.
Я встал и взглянул в окно.
По улице продвигался наш отряд. У многих были откинуты капюшоны, и красные звезды сияли всей своей пятиконечной остротой. Глухой обернулся к нам и залопотал что-то весьма невразумительно. Его лопотание хозяйка перевела на чистый белый финский язык.
— Господа офицеры, в деревню вошли красные, мой муж предлагает вам спрятаться у нас под полом, пока они не уйдут, или дождаться ночи, чтобы спокойно уйти от красных бандитов.
— Я очень тронут, хозяюшка, вашим любезным предложением, — спокойно отвечал товарищ Хейконен, — но мне нечего бояться этих красных бандитов, тем более что сам я их начальник.
И с этими словами он высвободил свой шлем из капюшона и нахлобучил его на свою круглую светловолосую голову.
Глухонемой, увидев красноармейский шлем на голове того, кого он считал финским егерским офицером, издал протяжный вопль, вопль отчаяния, и, весь изменившись в лице, сразу рухнул в стоявшее рядом с ним кресло.
В этом кресле, все в том же положении, безучастный ко всему, что творилось в комнате, не издавая ни одного звука, глядя прямо перед собой неподвижными глазами, он оставался все время, что мы провели в деревне.
* * *Наши караулы уже оцепили деревню, никто не мог из нее выйти без нашего ведома и раньше нас.
Товарищ Суси, доедая яичницу, записывал что-то в походный дневник отряда.
Его мучила мысль, что он не мог до сих пор переслать штабу руководства, товарищам Ровио и Инно, ни одного донесения, и в штабе могли подумать, что отряд уже погиб, взят в плен, расстрелян или что отряд где-нибудь застрял.
Суси также думал о том, что отряд не получает никаких известий из внешнего мира, да и получить их совершенно невозможно.
Сейчас, может быть, снова объявила войну Польша или японцы пошли через буферную Дальневосточную республику на Страну советов, а мы здесь ничего этого и не знаем...
— Матти, — обратился ко мне Суси, — сколько километров пути ты отметил на карте в эти сутки?
— Шестьдесят пять, товарищ адъютант, по линии полета птицы.
— Ты забыл наши отступления по этой линии, извилистое русло реки, наши выходы на берег.
— Тогда около ста, товарищ Суси.
Солнце сияло во-всю, снежные искорки золотились на улице, переливались всеми цветами радуги и задорно хрустели.
Было великолепное зимнее утро. В комнату быстро вошел Антикайнен. Он не взглянул на нас и не заметил даже нашего присутствия.
Не раздеваясь, казалось, в полном изнеможении, он рухнул на хозяйскую кровать. Рука его свесилась с постели.
Суси, также не заметив появления Антикайнена, продолжал делать записи в своем дневнике. Услышав скрипение пера, Антикайнен тихонько приоткрыл глаза и только теперь заметил нас. Тогда он стал шарить рукою по постели и, сделав вид, что он что-то искал здесь, медленно поднялся и как бы про себя произнес:
— Нет, не то.
И уже стоял перед нами, снова подтянутый, подобранный, боевым командиром.
Видимо, даже и перед друзьями стеснялся он показать свою усталость. Таким уж был он.
* * *Был большой пятичасовой привал.
В начале первого мы должны были снова выйти в поход — уже в районы, где был неприятельский центр. Ребята спали вповалку на полу в избах. Лишь некоторые счастливцы имели силу добраться до полатей или сделать себе подстилку.
Блаженное выражение полного отдыха блуждало на лицах многих, другие спали сосредоточенно. Тойво с одним курсантом забрался на мягкую постель кулачки и спал, не помня себя.
Перед тем, как улечься спать на соломе на полу, я подошел и взглянул на лежавшего на краю постели Тойво.
Он глубоко дышал, и руки его сгибались, и ноги его сгибались и распрямлялись, пружиня, подобно тому, как это бывает при лыжном беге. Лицо его было сосредоточенно, ровное дыхание вырывалось из его груди. Мышцы рук и ног мерно, в такт сокращались и расслаблялись.
Было ясно, что Тойво шел на лыжах и во сне.
Двигая руками и ногами, он задевал своего соседа по постели. Но тот спал так крепко, что, казалось, ничто не в состоянии было разбудить его.
В тот же день, в начале второго, мы снова вышли в путь — вперед на Реболы.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Мы захватываем Реболы. Я снова иду в разведку
Небо было черное, как и стволы мачтовых сосен, когда вокруг луны показались кольца северного сияния.
Они совсем не походили на изображения северного сияния в хрестоматиях и учебниках географии — они не были разноцветны. Тусклый желтовато-белый свет освещал их как будто изнутри.
Луну окружили два огромных концентрических светящихся кольца.
Потом ночь их размыла, и осталась опять холодная, огромная небесная пустыня и наш маленький отряд, идущий через лес, перелески, рощи, опушки, долины, лесные речки, по твердому насту и по разрыхленному снегу все вперед, вперед...
И казалось, что мы идем так бесконечно, и начало похода, еще недавнее, совсем потерялось в таких уже далеких мирных и невозвратимых днях, что даже и вспомнить было трудно, были ли когда-нибудь такие дни. И трудно даже было подумать о том, что будет, когда поход окончится (о, как натирает ремень!). И разве может он окончиться, а снега, растаяв, обнажить топкие болота Карелии?
Мы шли... Рядом со мной шел Лейно.
Мы шли, сделав в снегах после Челки еще один привал. Отряд приближался к Реболам. Антикайнен распорядился обойти Реболы, чтобы приблизиться к деревне со стороны финской границы, откуда нас меньше всего можно было ожидать.
Мы готовились к жаркому бою. Лейно шел по склону к озеру. Я остановил на минутку товарища Лейно.
Мы стояли на склоне, отряд шел по озеру. Я молча смотрел на товарищей, и, перед тем как оттолкнуться палками и пойти вслед за другими вниз по склону, Лейно сказал мне:
— Вот смотрю я на ребят и думаю: если бы я сам не был в отряде, а так, случайно, очутился в эту секунду на этом склоне и увидел наших курсантов, идущих, как сейчас, молча, в этих белых балахонах, в свете луны по льду озера, я бы испугался и, будь человеком суеверным, подумал бы, что идут привидения, тени людей.
И действительно, отряд, идущий в лунном свете по озеру, напоминал процессию призраков.
— Но только твои привидения, Лейно, слишком по-человечески, по-зверски даже, дышат!
Сильные выдохи и вдохи, сопение, какой-то хриплый шопот дыхания нарушали ночную тишину зимнего озера.
Мы шли все вперед. Лейно мне говорил:
— Я уже однажды сделал на лыжах глубокий рейд. Но тогда я был совершенно одинок, и рядом со мной не было ни одной родной души.
Я был захвачен под Выборгом в плен лахтарями и случайно приговорен не к расстрелу — американский журналист присутствовал на суде, — а к десятилетней каторге.
Меня вместе с другими тридцатью тысячами товарищей продавали в рабство в германские колонии Африки[11].
Если бы я уважал законы, то сидел бы и до сего дня в каменном мешке и не пошел бы в этот рейд. Но я уважаю только такие законы, которые помогают бить лахтарей, и поэтому, когда представился случай, я бежал из тюрьмы. Ты знаешь, что в каторжных централах ворота широко открываются только внутрь, и выйти было нелегко. Но я вышел...
Нас, арестованных, переводили в другую тюрьму.
На двадцать человек было четыре конвоира.
Я уже заранее сговорился с товарищами, и они сделали так, как было условлено.
По дороге через лес — в пяти километрах от тюрьмы — два товарища поссорились и начали драться.
В драку ввязались еще двое, — конвоиры бросились разнимать дерущихся. И, воспользовавшись этой суетливой суматохой, я, перепрыгнув через обочину, пустился наутек в лес.
Вдогонку мне раздалось несколько выстрелов, но в сумерках за деревьями не так-то легко попасть. Бежать же за мною конвоиры не решились, боясь, что тогда разбегутся и все остальные арестанты.