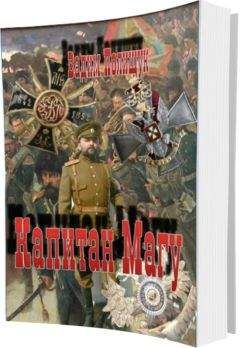Евгений Войскунский - Мир тесен
Да еще эта история с Фрицем…
Береговая база разместилась на набережной, неподалеку от стоянки катеров, в первом этаже бывшего склада. В обеденный час у каменного крыльца крутилась белая, в черных пятнах собачонка, дворняга, в чьей тощей фигуре, однако, содержался намек на родство с фокстерьером. Запахи камбуза кружили, должно быть, ей голову. Но людей собачка боялась. Стоило кому-нибудь шагнуть, подзывая, с протянутой рукой, как тотчас юркий песик исчезал. Он хорошо знал здешние подвалы и подворотни.
Так вот, Штукин сумел войти к этому несчастному, оголодавшему существу в доверие. Как ему это удалось, не знаю, но уже несколько дней спустя песик, завидев его, крутил обрубком хвоста со скоростью две тысячи оборотов. С жадностью, превосходившей все виденное мной (а я, как вы знаете, повидал), он пожирал все, что выносил ему из столовой Штукин, — хлеб, пшенку, тушеную капусту, даже компот безотказно лакал из консервной банки из-под рыбы. Он прыгал у ног Штукина, лизал ему руки, а тот, ухмыляясь, трепал его за уши. Я назвал песика Фрицем, кличка прилипла, и уже сам песик, носивший при немцах, само собой, другое имя, отзывался на нее.
Фриц провожал нас, когда мы вечером уходили в море. И каждый раз, возвращаясь с моря, мы видели на набережной, у места нашей стоянки, белую, в пятнах, фигурку — этакий маячок, терпеливый сгусток преданности. Сидел ли Фриц всю ночь, поджидая нас? Штукин говорил, что ночью Фриц спит в подвале, но к нашему возвращению непременно занимает свой пост. А ведь возвращались мы в разное время. Каким-то образом Фриц чуял это.
Однажды, выйдя из столовой на весеннее солнышко, мы неторопливо закурили. Фриц был тут как тут. Мигом убрал с обрывка газеты вареную картошку с волокнами консервированного мяса и, сытый и благодарный, крутился возле Штукина. А Гарбуз подобрал валявшуюся палку и, наставив ее, как ружье, на Фрица, прокричал: «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту!» Ох, что сделалось с Фрицем! Припав на передние лапы, он оскалил мелкие острые зубы, злобно зарычал, взлаивая, и попятился, попятился, не зная, как себя уберечь. Его тщедушное тельце сотрясалось от злости и страха. Гарбуз захохотал и двинулся на пса, продолжая «стрелять». Фриц, истерически взвизгнув, метнулся за крыльцо и исчез.
Штукин выхватил палку из рук Гарбуза:
— Зачем пугаешь собаку?
— А что такое? — У Гарбуза на остреньком лице сияли от удовольствия веснушки. — Поиграться нельзя?
— Видишь же, он боится. По нему стреляли. Зачем мучить?
— Никто не мучит. Заткнись, Косопузый.
Ну ладно. Повздорили два соловецких дружка — потом помирятся. Чего там — из-за собаки-то. Собака, как известно, не человек, хотя и у нее, между прочим, живая душа. Разве нет?
В следующую ночь мы наконец-то настигли немецкий конвой. Вся группа катеров атаковала, прорвавшись сквозь остервенелый огонь, и пустила ко дну два транспорта и сторожевик. Сторожевик потопили мы, наш катер, — Макшеев точненько влепил обе торпеды. Мы радовались, черт побери, а больше всех радовался сам лейтенант Макшеев. Он самолично, потребовав у боцмана краски, закрасил в звезде на рубке единицу, означавшую потопленный корабль — БДБ в гавани Мынту, — и намалевал крупное «2».
После обеда я сладко уснул в кубрике на береговой базе, как вдруг меня грубо разбудили. Сквозь тающий, как при затемнении в кино, обрывок сна я увидел лицо Дедкова, накрытое, как изба соломенной крышей, бледной шевелюрой.
— Юнги дерутся! — тряс он меня за плечо.
— Ну, разними, — пробормотал я. Ужасно не хотелось вставать.
— Да не даются они! Бегим, старшина!
И мы «побегли» за угол, за груду развалин разоренной жизни.
— Эй, соловьи-разбойники! — крикнул я, подбегая. — Прекратить драку!
Но они уже прекратили. На краю огромной воронки, заполненной бурой водой, сидел на корточках Штукин, промывал глаз. Около него вертелся, тонко поскуливая, сострадающий Фриц. Гарбуз стоял поодаль с разбитым носом, озабоченно осматривал свои часы. У него на днях появились наручные часы на ремешке, он хвастал в кубрике: «Пятнадцать камней!» Часы заводились громко, как трактор. По словам Гарбуза, он выменял их у какого-то литовца на хлеб и консервы. (Я сильно подозревал, что в обмене участвовала и моя зажигалка.)
Схватив драчунов под руки, я без лишних разговоров поволок их в санчасть, обосновавшуюся на задворках береговой базы. Друг Шунтиков, к счастью, оказался на месте, а врача не было. Пока Иоганн Себастьян делал юнгам примочки, я высказывался, не стесняя себя в выражениях. Суть высказываний заключалась в том, что на бригаде торпедных катеров все только и мечтают о покое, который наступит после того, как обоих юнг спишут к такой-то матери. Штукин угрюмо молчал, сопел. А Гарбуз, придерживая марлю со свинцовой примочкой на носу, крикнул дурным голосом:
— Ну и пусть спишут! Мне в герои не надо! Подумаешь, собачий заступник!
— Зачем ты дразнишь этого Фрица? — спросил я. — Что тебе за радость пугать животное?
Гарбуз сквозь разбитый нос издал звук, который можно было понять так: каждый развлекается как умеет.
— Дыхнуть не даете, — зло сказал он. — То нельзя, это нельзя. Даже кошку не тронь.
— Что еще за кошка? — спросил я.
Неприятно осклабясь, он выдал байку: на корабле происшествие, командир вызывает старпома и делает ему замечание, старпом вызывает командира БЧ (боевой части) и втыкает выговор, БЧ вызывает старшину группы и снимает с него стружку, старшина группы орет на командира отделения, тот материт матроса, и вот обруганный матрос выходит на верхнюю палубу, видит: идет корабельная кошка. Ка-ак он даст ей ногой под хвост…
— Ишь, расплакался! — выкрикнул вдруг Дедков, молча стоявший у окна санчасти. — Да у тебя язык длинней кошачьего хвоста! Тебе только слово скажи — от твоих грубостев бензином не отмоешься!
— А не надо мне говорить, — буркнул Гарбуз.
— Как не надо, если сачкуешь? Старшина! — устремил Дедков на меня взгляд, взыскующий справедливости. — Не могу я с Гарбyзом! Пускай заберут на другой катер!
— Это не ко мне, — прервал я. — Подай рапорт командиру.
— Гáрбуз я, а не арбуз, — сказал строптивый юнга. Нос у него пылал, как левый отличительный огонь на корабельном борту.
— Чего вы никак не поладите? — сказал я со смутной тоской. — Вам бы жить у папы с мамой. Воздушных змеев запускать. А вы воюете, пацаны чертовы. Так хоть между собой не деритесь. Неужели нельзя по-доброму?
— Был бы у них папа, — проворчал Шунтиков, звякая в углу склянками, — так задал бы ремня, и будь здоров. Ну, давайте. Некогда мне тут с вами.
Не знаю, подал ли Дедков рапорт. За драку наш командир отвалил Гарбузу десять суток «губы», однако наказание оказалось символическое, потому что в Мемеле еще не успели оборудовать гауптвахту. Фрица Гарбуз перестал дразнить. Только, цыкнув, посылал в него сквозь щель в зубах длинный презрительный плевок.
Апрель уже шел, с каждым днем становилось больше тепла, солнце пригревало берег с усердием доброго работника. А в море по ночам еще было холодно, и луне редко-редко когда удавалось вылететь из туч и положить на водяные холмы полоску зыбкого серебра.
В ту ночь было особенно темно. Мы еще не успели далеко отойти от берега, как Штукин, впередсмотрящий, прокричал, поворотясь к рубке, что увидел огонь — слева тридцать. Смотрели в том направлении — ни черта не видать, сплошные черные чернила. Штукин, однако, кричал, сильно окая, что видел «коротенький свет, как окошко». От его зорких глаз не стоило отмахиваться. Макшеев в ларингофон доложил Вьюгину, шедшему на другом катере. Вьюгин, тоже всерьез принимавший изрядное штукинское зрение, велел ворочать в ту сторону. Тем более что он, как я узнал позже, был извещен разведкой о возможном крупном конвое противника этой ночью.
Ну, короче: Штукин не ошибся. Шел огромный конвой. Шел на юг вдоль косы Курише Нерунг, возможно намереваясь мелководьем обезопасить себя от атак наших подводных лодок, — они, теперь базирующиеся на порты Финляндии, активно действовали в Южной Балтике, наносили противнику сильный урон. Ну, а нам, катерам, мелководье не помеха.
Взлетел и хлопнул, словно ударившись о тучи, осветительный снаряд. За ним второй. В неживом мерцающем свете немцы вглядывались в нас. Но и мы их теперь видели — несколько груженых транспортов под охраной эсминцев и сторожевиков. Мы, оказавшиеся мористее конвоя, быстро сближались с ним. И началось…
Я не видел боя — сидел у себя в рубке, связь держал, — но слышал его дьявольский грохот. Катер трясло и подкидывало. Рация норовила сорваться с амортизаторов. Уловил момент, когда вылетела из желоба торпеда. Катер положило на борт при повороте, вдруг резко упала слышимость, телефоны на ушах будто оглохли, и я понял, что с антенной неладно. Сняв наушники, выскочил наверх. Море горело красноватым огнем, мотались языки дыма, вода выбрасывала острые гребенки всплесков. Я крикнул Штукину, чтоб натянул антенну, но разве услышишь голос человека в грохоте боя, да и не видно было Штукина у пулемета. Катер, сбросив обороты, шел сквозь клочья дыма по длинной дуге циркуляции. Я поймал мотающуюся на ветру антенну, сорванную со сбитой осколком мачты, потянул ее, хватаясь за поручни рубки, назад и закрепил на флагштоке. Потом прошел к носовому пулемету. Штукин лежал тут, свернувшись калачиком, обе руки прижав к животу. Взяв под мышки, я приподнял Штукина. У него, как мне показалось, шевельнулись губы, сведенные болью. Пятясь, я потащил его к рубке. Катер шел малым ходом. Тут и боцман подоспел. Вдвоем мы затащили Штукина в рубку. Он чуть слышно простонал, когда мы обнажили страшную рану на животе. Кровь вытекала из холодеющего тела, и мы с боцманом принялись туго бинтовать, чтобы остановить, остановить уходящую жизнь. А катер опять набирал обороты, Макшеев снова выходил в атаку, и пришлось нам, забинтовав Штукина, вернуться на боевые посты.