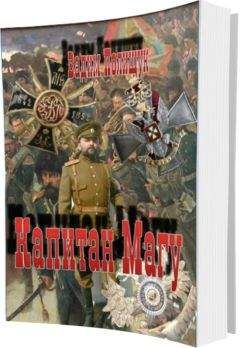Евгений Войскунский - Мир тесен
Незадолго перед праздниками Вьюгин подозвал меня после утреннего проворачивания механизмов:
— Говорят, в Курессаре работает почта. Вот тебе деньги, Борис, отправляйся, найди почту и пошли перевод. Тут шестьсот. Вот адрес. И заодно разыщи армейский госпиталь, зайди Крикунова проведай. Ясно? — Он сунул мне в руку небольшой сверток.
Сыпался мелкий твердый снег. Лужи, покрытые первым, еще тонким ледком, хрустели у меня под сапогами. Вот и зима опять, думал я, застегивая бушлат доверху и поеживаясь от колючего ветра. А война все не кончается, будь она проклята!
Я шел по грунтовой дороге в Курессаре, мимо безлюдных островерхих домиков, под качающимися на ветру ветками деревьев, и было мне зябко и грустно, — ну, вы понимаете, почти два месяца живу без Светкиных писем. А разве можно жить одними только десантами, одной войной?
Попутный армейский грузовичок подбросил меня до города, и почти сразу я увидел на стене двухэтажного дома, среди многих наспех намалеванных стрелок и номеров частей, синюю стрелку с буквами «В. Г.», что, несомненно, означало «военный госпиталь». Я пошел узкой улицей, дома почти сплошь были деревянные на высоких каменных цоколях, и с какого-то перекрестка взору открылась гавань. У причалов качали мачтами корабли, их было много — малых и разных.
В тесной госпитальной комнате койки стояли почти вплотную. Крикунов улыбнулся мне через силу, его юношеское лицо, обросшее русой бородкой, осунулось и побледнело. Я передал ему привет от Вьюгина и посылку. Крикунов развернул газетную обертку, там были банка американской колбасы, печенье, брусок масла.
— Спасибо, — сказал он. — Положи на подоконник. Как там дела у вас? Рассредоточились?
Да, подтвердил я, после бомбежки кое-кому нагорело, катера рассредоточили, замаскировали сетями, дивизион «деревяшек» перебазировали в Кихельконну — на западное побережье Эзеля…
Он смотрел в окно, где качались голые ветки. В его светлосерых глазах была печаль.
— Ты смотрел картину «Остров сокровищ»? — вдруг спросил он. — Не помнишь, кто играл одноногого Джона Силь вера?
— Кажется, Абдулов. А что?
— Да так… — Крикунов помолчал. — Пожалуй, я тоже мог бы теперь сыграть, — сказал он как бы в ответ на свои мысли.
— Что вы имеете в виду, товарищ старший лейтенант? — Тут я вспомнил об его актерских наклонностях. — Хотите сыграть Сильвера? Но вы совсем не похожи на пирата.
— Неважно, — сказал Крикунов. — И вообще все роли уже сыграны.
— Еще сыграете свою роль.
Ужасно хотелось подбодрить симпатичного старлея, но я не знал, как это сделать.
— Нет, Земсков. — Он посмотрел на меня будто издалека. — Занавес опущен.
Я простился и покинул госпиталь. Вот и еще один мушкетер выбыл из строя, думал я, сострадая. Бедный Атос…
Военно-морская почта действительно на днях обосновалась в Курессаре, заняв первый этаж просторного особняка. По записке Вьюгина я заполнил бледными казенными чернилами бланк перевода. Деньги отправлялись в Баку Варгановой Амалии Степановне. Я знал, что после гибели лейтенанта Варганова Вьюгин с Крикуновым каждый месяц посылали его матери по триста рублей. Знал, там большая семья, отца нет, три девочки мал мала меньше, и живется им трудно. Кажется, эта Амалия Степановна работала кассиршей в клубе имени Фиолетова — почему-то запомнилось название клуба и улицы, где он расположен, — Сураханской. Лейтенант Варганов любил рассказывать об этой бакинской улице, на которой вырос, и о своих сестрах. «Вот подрастут они, — говорил он, бывало, — после войны всех вас, чертовых холостяков, поженю на них». Сестры обожали старшего брата и писали ему нежные письма.
Отправив вьюгинский перевод, я заполнил еще один бланк и послал Светке всю наличность — сто пятьдесят рублей, свой небогатый оклад за два месяца.
Потом спросил у разбитного матроса, работавшего за стойкой на сортировке писем, нет ли почты для нашей войсковой части. Почты, конечно, еще не было. Наступление шло быстро — тылы еще только подтягивались. Я выпросил у матроса клочок бумаги и теми же бледными чернилами стал писать письмо Светке.
«…сегодня выпал снег, — писал я мелко, экономно, — зима уже, а писем нет как нет. Светка, где же ты?! Может, ты приснилась только? Может, ты финтивная?..»
Мешал писать почтовый матрос: любезничал с зашедшей на почту девицей-краснофлотцем, ворковал, напрашивался на свидание. Девица отшила курессарского донжуана:
— Бабью работу делаешь, и язык у тебя как у бабы.
— Иди, иди! — осерчал тот. — Подумаешь! Эрзац-матрос!
Я вскинулся, шагнул к стойке:
— Ты, дефективный! Извинись перед девушкой.
— Тю! — смерил он меня презрительным взглядом. — Защитник нашелся! Да какая она девушка?..
Перегнувшись, я ухватил его за ворот фланелевки, но он вырвался и, ругаясь, выбежал в заднюю комнату. Девица схватила меня за руку:
— Идем! Он сейчас патруль вызовет. Ну, скорей!
Мы выскочили на улицу, и только тут я увидел, что краснофлотец — прехорошенькая девушка, такая яркая брюнеточка со смелыми глазами, в шапке, лихо сдвинутой набекрень. Шинель на ней сидела ладно, по фигуре, а на ногах были не грубые ботинки — вы знаете, как мы их называем, — а сапоги, и не из кирзы, а хромовые. Эта девочка, что называется, блюла себя.
Мы свернули за угол, там церковка открылась. Я остановился.
— Как тебя зовут, защитник? — спросила девица.
— Борис.
— А меня Тоня. — Она засмеялась. — Вот и познакомились. Ты с торпедных катеров?
— Как ты узнала?
— По усам.
— Усы и на броненосцах носят.
— На броненосцах! — Она еще пуще залилась. — Скажешь, защитник! Броненосцев давно нету. Чего ты стал? Проводи меня до бригады траления.
— Извини, Тоня, — сказал я, с удовольствием глядя на ее лицо, такое живое и яркое. — Пойду обратно. Письмо хочу дописать.
— Кому ты пишешь?
— Жене.
— Жене?!
Несколько секунд она ошарашенно моргала, вытаращив на меня глаза. Потом новый взрыв смеха сотряс город Курессаре.
«…и как будто не было этих дней (и ночей). Как будто ты приснился мне и ушел из сна. Я слушаю лекции, ем, бегаю по каким-то делам, подопечных навещаю, хлопочу насчет операции для мамы. Но эта, бегающая, какая-то не главная я. Главная я все время думаю о тебе. Беспокоюсь. Ведь осень уже. В море холодно. Бедненький мой, ты, наверно, мерзнешь и ругаешь меня за то, что теплые носки не положила тебе в мешок. У мамы есть старые шерстяные, они подошли бы тебе. А я плохая жена, недосмотрела! Отругай меня как следует! Только не бей, пожалуйста…»
«…твое второе письмо, записка коротенькая, только я не поняла, где ты ее писал. Понимаю, идет наступление, и вы все время в движении, потому и не доходят до тебя мои письма. А я пишу часто, Боренька! Мне просто необходимо с тобой поболтать! Вчера ходила в домоуправление, заявление подала насчет дров, ведь холодно уже, а там сидит эта паспортистка, с запятыми вместо глаз, я спрашиваю, как с пропиской, а она говорит: никак. Я рассердилась, а тут Коротаев вошел, я к нему. Он говорит: ваш вопрос, Шамрай, скоро решат в райжилотделе. Во-первых, говорю, я не Шамрай, а Земскова. А во-вторых, говорю, какое вы имеете право не верить свидетельству о браке? Это официальный документ. Боря, представляешь, он отвечает: много вас тут ходят, а я обязан закон соблюдать, а верить вам не обязан. Нет, ты подумай! Соблюдать закон — значит не верить человеку! Как странно, Боря! В блокаду мы, чуть живые, спешили помочь друг другу, а кончилась блокада, значит, можно наоборот…»
«…Боренька, миленький, ну я же не виновата, что мои письма не успевают за тобой! Я пишу, пишу! Наберись терпения, бедненький мой… Вы все время в боях, да? Как понять твое выражение «морские извозчики»? Высаживаете десанты? Борька, береги себя! Для меня береги себя… мой любимый…»
«…целая пачка! Я зарылся в нее с головой, с сапогами и читаю, читаю, читаю. Послушай, почему я не женился на тебе раньше? Например, в детстве. Хотя нет, в детстве ты была плакса, ходила вся в соплях. Твои письма гонялись за мной по всей Балтике. Наконец догнали в Таллине. Мы тут будем ремонтироваться и зимовать. Некоторым ребятам повезло: ушли на ремонт в Питер. Завидую им черной завистью, хотя сознательно понимаю, что это не наше чувство, которое я, как комсорг отряда, должен в себе изжить. Кстати о зависти. Есть у нас один паренек, юнга по фамилии Гарбуз, бывший хулиган, состоящий из наглости и веснушек. И есть другой юнга, Штукин, пулеметчик. Оба, конечно, безотцовщина. У Штукина отца повесили немцы. Об него чиркни спичкой — зажжется спичка, такой он накаленный. Штукин здорово отличился в недавних боях. И когда нас, катерников, на прошлой неделе награждали (за Моонзунд), Штукину дали орден Красной Звезды. И правильно. А Гарбузу вышла медаль Нахимова. Тоже неплохо. Но тут Гарбуз выкинул номер. Слямзил у нашего механика спирту, на целый день исчез с катера. А стоим мы на судоремзаводе, ремонт еще не начали, и мы только и знаем окалывать наш кораблик, чтоб льдом не затерло. Ну, хватились к вечеру Гарбуза. Его непосредственного командира отделения Дедкова послали искать. Могло произойти все что угодно. В городе, мы знали, притаились бывшие боевики из фашистских местных формирований. Долго ли, трудно ли в темном углу придушить пьяного дурака с цыплячьей шеей? Дедков пошел искать, бродил по заводу, наконец один эстонец-слесарь, говоривший по-русски, показал нужное направление. Гарбуз валялся с разбитой мордой в закоулке возле котельной, спал мертвецким сном. Дедков растолкал его. Гарбуз обложил Дедкова низовым матом (в низовье Волги сохранился от рыбацких ватаг особый мат). Дедков, откуда только силы взялись, приволок его к нашей стоянке, Гарбуз, когда Дедков отпустил его, сел на бетон стенки, цыкнул и послал в Дедкова плевок. Хоть не попал, а Дедков, даром что кроткий, дико взъярился, кинулся в кулачный бой, я еле успел его перехватить. Ну, проспался Гарбуз, стали мы с механиком Дурандиным его расспрашивать. Он хмуро, односложно отвечает. По какой причине напился? Просто так. С кем пил? Не помню. С кем подрался? Не помню. Ладно. Командир катера впилил Гарбузу десять суток губы по-строгому. Пока ждали места (губу только начали оборудовать в Таллине), я готовлю отрядное комсомольское собрание, говорю Гарбузу: будем тебя разбирать, даю совет: чистосердечно покайся. Молчит. Ладно. Но перед собранием вдруг суется ко мне в рубку: старшина, поговорить хочу. Выходим на стенку, туда-сюда по свежему снежку, курим, и он говорит: «На собрании каяться не буду, а тебе, старшина, скажу. Напился, потому что обидно стало, что я последний человек на катере». — «Да ты что? — говорю. — По какому счету считал?» — «А по такому, какой каждому виден. Всем в экипаже вышли ордена, а мне медалишка». — «Ну, — говорю, — во-первых, не медалишка, а боевая медаль. А во-вторых, ты сравни…» — «Знаю, знаю, — перебивает, — Косопузый первый прыгнул в воду…» — «Да, — говорю, — Штукин показал десанту, что можно идти. А кроме того…» — «Не надо, старшина. Наперед знаю все, что ты скажешь». — «Ну, раз знаешь, так и говорить не о чем». Пошел я на катер, тут он окликает: «Погоди еще минутку. Другой раз не выскажусь». — «Ладно, слушаю». Шмыгнул он носом и говорит: «Убегу от вас». Я рот разинул: «Как это — убежишь!» — «Не с войны убегу, — уточняет, — а от вас. От Дедкова. Он как почнет нудить, так кишки заворачиваются сикось-накось. Почему свечи не чищены? (Очень похоже изобразил Дедкова.) Почему фильтр немытый?» — «Так прав Дедков, — говорю. — Ты свечи должен чистить». — «А то я не знаю! Я и сам их почищу, только над душой не стой. А он нудит, нудит… В Курисарях катерные тральцы, там дружки у меня. Сбегу туда. На Эзель. А тебя, старшина, заране предупреждаю, чтоб не писали меня дезертиром». Я стою хлопаю глазами, не знаю, что этому паршивцу сказать. И вдруг придумал: «Не от Дедкова ты бежишь, а от своей зависти». Он как вскинется: «Чего, чего от зависти? Кому завидую? Косопузому? Я на Соловках не хуже его учился! А то, что я в моторном отсеке стою, а не у начальства на глазах, так не значит, что я хуже!» — «Ну, вот что, Костя, — говорю. — Никто на катере не считает тебя хуже всех. А раз ты не можешь свою зависть унять, так беги». Теперь он рот разинул. «Первый раз, — говорит, — слышу, чтоб на такое дело толкали». — «А я не толкаю. Просто понимаю тебя». Он ухмыляется: «Да ты меня продашь, старшина». — «Не продам». И пошел к себе в рубку. Зачем я тебе пишу все это, Светка? Сам не знаю. Свободное время появилось, вот и пишу. А ты не читай, если скучно. По правде, побаивался я, что этот юнга и впрямь сбежит. Но не сбежал. На собрании ему крепко выдали. Но о нашем разговоре я промолчал. Светка, мне трудно ходить в комсоргах. Я не всегда знаю, как поступать. Посоветуй!