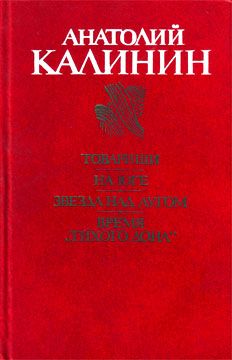Кристина Живульская - Я пережила Освенцим
В Будах находилась постоянная аусенкоманда из 300 женщин. Бараки там не были окружены проволокой. Заключенные работали в поле. На территории лагеря находилось еще несколько таких же, как в Будах, команд.
Названия свои они получили по имени деревень, которые некогда были на этом месте, например Райско, Бабице, Харменза. Считалось, что в Райско самые лучшие условия работы, там разводили овощи и цветы. Попасть туда было вершиной мечтаний. Другим надежным местом, где можно было продержаться, считалась Харменза — ферма-инкубатор. О Будах мы почти ничего не знали. Во все эти команды попали немногие счастливчики.
Мы с Зосей условились, что она заболеет и ее отошлют к нам в ревир — в Будах своего ревира не было. И мы, может, снова будем вместе.
Стефу, Марысю, Ганку отправили в лагерь Б. Я осталась. И для меня это оказалось лучше. Я попала в распоряжение шрайбштубы — канцелярии. Устроила все это Валя. Она была в лагере уже два года. Попала сюда с одним из первых польских транспортов. Она принадлежала к тем немногим, которые, несмотря на все, не утратили человеческое достоинство. Она была просто хорошим человеком.
Вале понравились стихи, которые я сочинила во время утреннего апеля.
Никогда прежде я не писала стихов. Но так трудно было переносить апель и бесцельное выстаивание на лугу. В уме я стала подбирать рифмы. Нечем было, да и не на чем записать их. Первая придуманная строфа подбодрила меня. Я прочла вслух самые простые слова, вырвавшиеся из глубины сердца.
Над Освенцимом солнце встало,
день загорелся ясный.
Стоим в шеренге: старый, малый,
а в небе звезды гаснут…
Я рассматривала это «творчество» как шараду. Оно было для меня неожиданным благословением, ибо позволяло оторваться от действительности.
Проверка, все должны явиться,
в погоду и в ненастье,
и можно прочитать на лицах
тревогу, боль, несчастье.
Ведь там мой сын в слезах, быть может,
мое лепечет имя…
И мама вспомнила… О боже!
Увижусь ли я с ними?
Быть может, вспоминает милый,
как мы в ту ночь простились…
А если — господи, помилуй! —
они за ним явились?
События идут быстрее,
как на киносеансе.
Вот кто-то едет по аллее
в высоком дилижансе.
Эсэсовки, как на картине,
порхают перед нами.
Стоим столбами соляными,
предметами, номерами.
Потом с презрительной гримасой,
построив нас по росту,
считают люди высшей расы
весь этот скот в полоску.
Вдруг мысль сверкнет и озадачит,
тисками сердце сжато…
Ведь это женщина — так значит,
сестра, невеста чья-то…
Все дальше фильм сенсационный.
Внимание! — команда.
Момент сверхкульминационный:
прибытье коменданта.
Неужто в мире все так мерзко?
Молюсь тому, кто выше…
Но, господи, прости мне дерзкой, —
есть кто-то, кто нас слышит?
А солнце в небе голубином
бросает копны света.
О добрый господи, внемли нам,
теперь недолго это? {Стихи даны в переводе М. Павловой.}
Подруги подхватили эти странные стихи. Они заучивали их на память, декламировали на нарах и в уборной. Так стихотворение «Апель» дошло и до Вали. Она разыскала меня и решила помочь мне.
Как старая, «влиятельная» заключенная, Валя заставила мою блоковую задержать меня на время в карантине. Таким образом я все еще ждала назначения на работу. Утром я шаталась без дела по лугу, тщетно отыскивая знакомые лица. Там было много чешек, француженок, несколько пожилых полек. Они сидели небольшими группами и вспоминали прежние времена. Эти попали сюда преимущественно за своих детей, за сыновей, за мужей. Слабые, измученные, они отдавали себе отчет, что долго не продержатся, но ревира все же избегали, напрягая все силы, старались выдержать апель.
Нас забрали на санобработку. Первый раз я попала в зауну.
— Это значит, будем мыться! — повторяли мы с восторгом. — Это значит, будем чистые и, может, отдохнем от этого ужасного зуда, ведь халаты тоже обработают.
Пятерками мы отправились в зауну. Действительно, халаты у нас забрали, а нас пустили под душ. Купанье продолжалось три минуты, ведь, кроме нас, подлежало обработать еще несколько блоков. Ни мыла, ни полотенец нам не дали. Мы вышли во двор мокрые, щелкая зубами от холода. Перед бараком стояла заключенная, обслуживающая зауну. Мы гуськом подходили к ней. Она смачивала тряпку в миске с дезинфицирующей жидкостью и протирала нас. Наши неловкие, стыдливые движения вызывали беспрерывный смех у собравшихся поблизости эсэсовцев. Они стояли группками, и видно было, что все это доставляет им развлечение. Если какая-нибудь из нас хотела пройти мимо миски, ее хватали и тащили силой, осыпая ругательствами. Особенно издевательским смехом эсэсовцы провожали пожилых женщин, для которых это представление нагишом было тяжелым унижением.
Одна из пожилых женщин спросила:
— Придет ли когда-нибудь время, когда их матери будут вот так же выставлены на позор?
— Думаю, что придет.
— И мы тоже будем над ними смеяться?..
— На это мы, пожалуй, не способны, но мы скажем тогда громко, на весь мир: «Это матери преступников, это те, которые воспитали их»…
Халаты нам еще не вернули после обработки. Мы ждали их. Близилось время апеля. Вот-вот приедут ауфзеерки и начнут поверку. Апель не может быть нарушен ничем. Нам приказали идти к баракам.
Мы были потрясены. Оказалось, что перед другими блоками тоже согнаны голые женщины.
Возле одного барака стояло несколько детей. «Арийские» дети из Замойска. Дети шести-семи лет, не больше. Они попали сюда в 1942 году с родителями, которых удушили газом. Это был период, когда еще и «арийцев» умерщвляли газом или делали им уколы фенола в сердце. В последнее время условия «изменились к лучшему», как рассказывали нам старожилы. В 1942 году, например, проводились общелагерные, генеральные апели. 31 января 1943 года был последний генеральный апель, когда люди простояли на морозе 14 часов. По окончании апеля всех заставили бегом бежать к лагерю, а тех, что шли медленно или останавливались, забирали в блок смерти. У тех, кому удалось выдержать этот апель, были отморожены руки и ноги.
Теперь эти дети казненных — постаревшие, все испытавшие дети — стояли серьезные, твердо сжав губы.
Здесь же жались друг к другу пожилые женщины, матери взрослых сыновей. Все нагишом. Был погожий сентябрьский день, но в шесть часов вечера, после мытья, нам было очень холодно без одежды. Наконец прибыли ауфзеерки и эсэсовцы. Посмеялись над этим зрелищем, пересчитали нас и уехали.
Но вот из зауны получены наши полосатые халаты. Совсем мокрые после дезинфекции. Мы надели их. Стало еще холоднее. Подумав, я сняла халат. Легла на нары нагишом. Я была сейчас еще грязнее, чем перед обработкой. А на следующий день по-прежнему по мне ползали вши. Халаты все еще не просохли. После утреннего апеля половину нашего блока отправили в ревир.
«Не пойду, — повторила я себе упрямо, хотя уже чувствовала, что у меня жар, — не пойду, пока меня не отнесут». В полдень показалось солнце. Кто-то дал мне хлеба. Я перестала дрожать.
Хлеб мне дала полная, веселая женщина, у нее были длинные волосы, и она была в штатском платье.
— Где ты работаешь? — спросила я. — Ты прекрасно выглядишь.
— Меня только что выпустили из бункера, я простояла там на ногах восемь месяцев.
— Неужели это возможно? За что?
— Сама не знаю. В один прекрасный день за мной пришли и забрали. Видно, произошло какое-то изменение в моем «деле». Заперли меня в бункер… и все. А выгляжу я так потому, что парни организовали мне помощь. Бункер ведь находится в мужском лагере. Они кормили меня, подбадривали. Все восемь месяцев я стояла без движения и вот… растолстела. А весела я потому, что могу наконец двигаться, дышать воздухом. Ты не имеешь понятия, как это замечательно… после бункера.
Я смотрела на нее с изумлением. Сколько же она выстрадала, если здесь ей кажется «замечательно».
— Никогда не падай духом, — добавила она. — Человек способен многое вынести, гораздо больше, чем он это может себе представить. Пробудешь здесь несколько месяцев, сама убедишься.
— Несколько месяцев?.. Это невозможно!
— Я тоже раньше так думала. Каждая так вначале думает и все-таки переносит. Если бы при аресте тебе сказали, что тебя ожидает, ты предпочла бы сразу умереть. А ведь еще ничего и не было, только начнется… приближается зима. Теперь, впрочем, лучше, — теперь хоть как-то заботятся о чистоте в лагере. Я знаю, тебе трудно поверить, но, когда я приехала сюда, было гораздо хуже.