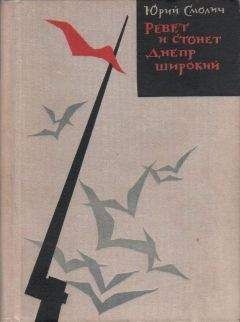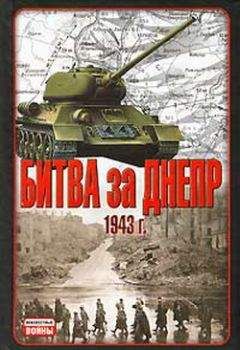Иван Сотников - Днепр могучий
— Будь ты сейчас на высоте, — указывал ему Жаров из траншеи, — Назаренко ударил бы справа. Куда деваться противнику? Держаться там нельзя. Значит, уходи. А уйти — это оставить без поддержки вон те позиции, что перед Пашиным и другими. А раз они без поддержки — им не устоять. Навалился бы Сазонов слева — лучше сматывай удочки. Дальше на протяжении десяти километров негде зацепиться, ни одного удобного рубежа. Вот бы какой плацдарм — дивизию высаживай, и то мало. А нам сейчас развернуться негде…
У Леона земля горела под ногами.
Вражеские пулеметы снова повалили цепи Сазонова.
— Хоть взвод дайте! — взмолился Самохин.
— Смотри!
— Рядовым пустите, не могу больше!
— Видишь, еще солдат упал, видишь, другой свалился, третий, видишь, полегло сколько, — неумолимо резал Жаров. — На тебе их кровь, из-за тебя они падают на землю, из-за тебя, и из-за меня тоже, потому, что не научил тебя выполнять приказы.
— Не вижу разве, сердце горит, пустите, товарищ капитан!
— Нет, смотри и казнись тут!
Такое упорство в конце концов сломило Самохина. Обиженно замолчав, он как-то по-особому взглянул на Жарова и вдруг поймал себя на том, что любуется комбатом. Да, любуется. Сколько ни сталкивался с Жаровым, уже не раз случалось вот так же: сначала безотчетный протест и раздражение, затем хорошая зависть, а если быть совсем откровенным, и желание быть похожим на него.
А бой все продолжался с прежним и даже нарастающим ожесточением. И наступающие, и обороняющиеся как бы соревновались в упорстве. Наконец цепи Румянцева и Сазонова ворвались на высотку и в ожесточенной схватке покончили с гитлеровцами.
О ЛЮБВИ И МУЖЕСТВЕ
С заседания партийной комиссии Самохина отпустили последним. Все, кого вызывали сегодня, уже разошлись и разъехались. Пошатываясь, как больной, Леон прошел к коновязи, забрал своего серого и, ведя его в поводу, устало побрел разбитой дорогой. Спешить некуда. Никто его не ждет теперь. Никому он не нужен. Впрочем, ладно: дальше фронта не загонят, и все обойдется. Только вот Яков, Яков… Друг называется. Нет, не мог Леон простить Якову тех обидных слов, которые тот высказал на парткомиссии. Доволен небось: принципиальность показал. А ты вот ходи теперь, весь облепленный ярлыками, доказывай, отбеливайся.
Эх, Яшка, Яшка!.. Ведь учились вместе, воевали бок о бок. А тут такие слова: «Зазнался», «Потерял над собой контроль». Наверное, крови жаждал, исключения добивался. Не вышло, однако. А выговор что? Пусть и строгий, а все не навечно.
Позади раздался конский топот. Леон обернулся и узнал Якова. Вот нелегкая вынесла!
Румянцев придержал коня и, соскочив на землю, пошел рядом.
— Ты чего это масти путаешь? — заговорил он добродушно. — Смотри, ведешь моего вороного, а мне оставил своего серого…
— Не до того! — буркнул Самохин.
— Переживаешь? — участливо тронул его за локоть Яков.
— Не к чему об этом, — еще больше нахмурился Леон и резко отстранил свою руку.
— Теперь не горевать надо.
— Обойдусь без советчиков. Утешитель нашелся. Не лицемерь — ведь ты же исключения добивался.
— Да ты в уме? — оторопел Яков.
— Сам слышал. Поезжай своей дорогой.
Яков перебросил повод, вскочил на коня, хлестнул его плетью.
Леон по привычке направился было в свою роту, но, вспомнив обо всем, повернул в тылы полка. Они размещались теперь в домиках того самого рокового хутора, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Войдя в первую попавшуюся хату, Леон зажег свет. На полу — свежая солома. В углу кто-то спит, укрывшись шинелью. У стены большое зеркало. Леон взглянул в него и не узнал самого себя: почернел, осунулся, даже морщинки появились. Двадцать семь лет — и морщинки! От жалости к себе заныло в груди и к горлу подкатил горячий ком.
Лег на солому, подложив под голову свернутую шинель. Прижался к ней горячей щекой. Но сон не приходил. Долго ворочался с боку на бок, тяжко вздыхал. Нет, не до сна! Самохин встал и вышел на улицу. У колодца умылся, смочил голову, сел на гладкий камень у крыльца.
Подставив лицо свежему ветру с реки, он долго смотрел вдаль, видел вспышки зенитных разрывов, прислушивался к далекому гулу канонады. На душе было тяжко и горько, и горше всего оттого, что из первых стал последним.
Сзади скрипнула дверь. Леон обернулся и почувствовал, что ему не хватает дыхания: на пороге хаты в накинутой на плечи шинели стояла Таня.
— Таня, ты? — после долгой паузы проговорил Леон и не узнал своего голоса: настолько он был сдавлен и глух.
Таня продолжала стоять молча. Леону неудержимо захотелось броситься к любимой девушке, обнять ее за хрупкие плечи, излить перед ней всю свою боль, обиду и повиниться во всем, во всем… Но Леон не отважился на это, потому что лицо Тани показалось ему холодным и отчужденным, и девушка даже чуть отпрянула назад, когда заметила порыв Самохина. Оправившись, Леон наконец обрел дар речи. Заговорил неестественно бойко.
— С поправкой тебя. И с Золотой Звездочкой. Героиня! Очень рад твоему возвращению. Посидим?
Сраженная внезапным появлением Леона, она тоже растерялась. Так и закаменела у порога, не в силах тронуться с места. Вот он, ее Леон! Какие вихри чувств связаны с этим человеком: близким и далеким, любимым и чужим одновременно. Что ни думала о нем, о встрече с ним, все исчезло, улетучилось. Лишь видела его по-прежнему желанным и дорогим, неудержимо влекущим к себе. Что должна она сделать, что сказать, как поступить? Нельзя же только молчать.
Собравшись с силами, Таня шагнула к нему и села рядом. Потянулись секунды тягостного молчания. Вдруг из груди Леона, как стон, как вздох, вырвались слова:
— Вот и опять свиделись. В горький для меня час свиделись.
А Таня продолжала молчать. Только в темноте было видно, как горят ее глаза. И блеск этих правдивых глаз был нестерпим.
Наконец она в упор взглянула на него:
— Как же это так, Леон, а?
«О чем она? Об Оле? О той встрече в лесу?» — мысленно гадал Самохин, и им сразу овладело смятение: было стыдно и больно.
2В их роту Таня пришла под Курском и долго оставалась какой-то неприметной. Может, оттого, что не лезла на глаза и сторонилась людей. А прошло время — ее узнали и полюбили за душевность, за скромность, за девичью строгость, одинаковую в отношениях со всеми, а окрестили милой безобидной кличкой кроха-недотрога.
Оля, наоборот, сразу бросалась в глаза. Живая и порывистая, острая на слово, с огневым взглядом, она никого не оставляла равнодушным к своей красоте и со стороны казалась такой доступной, уступчивой. Ей льстили ухаживания фронтовиков, она любила подзадорить каждого, кто хоть немного нравился ей, не чуралась увлечений и отдавалась им так же легко, как и отказывалась от них. Она чем-то походила на птицу, которая живет легко и весело, не задумываясь. Ее и прозвали-то птичкой-востричкой.
Некоторое время Леон оставался равнодушным и к той, и к другой. По-прежнему никем не интересовалась и Таня. Лишь позже она подружилась с Румянцевым. Она ценила его за ясный ум, за умение увлекательно рассказывать, за тихую, скромность. С ним всегда интересно, спокойно. Да и встречалась-то с ним у всех на глазах. Леона она сторонилась, даже побаивалась. А почему — сама не знала. Потом они познакомились ближе, и Таня потеряла покой. Не то чтобы влюбилась, нет, просто с ним приходилось быть все время настороже. Он умел блеснуть, гордился своими успехами, бравировал мужеством. Это нравилось и не нравилось. Он над всем подсмеивался, подшучивал, не задевая лишь комбата, которого безотчетно побаивался, и Таню, перед которой все чаще робел и даже терялся. Потом он уже не скрывал своей увлеченности ею. Она не отвечала, и своим равнодушием лишь сильнее распалила его чувство. Дальше — больше. Как-то на привале бойцы упросили Таню сплясать, и она изумила всех. Столько в ней было воздушной легкости, изящества, грации, захватывающей страстности, и казалось непонятным, откуда такой огонь в этой тихой и скромной девушке.
Леон в тот же день излил ей все свои чувства. Она лучше всех, и он любит ее безмерно, на всю жизнь. Таня испытующе глядела ему в глаза и недоверчиво качала головой.
Ее упорство раздражало и порой злило.
— Бесчувственная ты, — горячился Леон, — я к тебе всей душой, а ты играешь, забавляешься. Злая кокетка, вот ты кто. Не любишь, и пусть. Не хочешь — уйду. Звать будешь — не услышу, кричать — не вернусь.
— И кричать не стану, — ласково усмехнулась девушка, — бровью поведу — и придешь, слово скажу — прибежишь. А нет — разве тогда любовь?
— У, насмешница! — беззлобно сказал Леон, не в силах расстаться с нею. Обида и нежность скрутили его по рукам и ногам. Перед ним была совсем другая Таня, которой не знал раньше и которую любил еще больше.