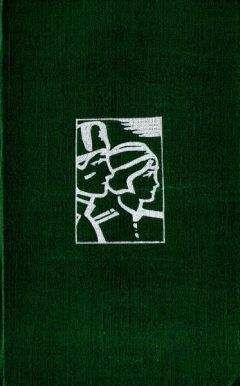Аркадий Минчковский - Мы еще встретимся
В девять лет он впервые побывал в театре. Повел их туда учитель пения, Анатолий Павлович. Они пришли на Моховую улицу. Анатолий Павлович сказал:
— Это ТЮЗ, Театр юного зрителя. Значит — ваш театр.
Зал в театре был круглый, а скамейки с высокими спинками горой поднимались одна над другой почти до самого потолка. Это было совсем не похоже на кино, куда ходил Лева с отцом. Порядок в зале охраняли мальчики и девочки с синими повязками на рукавах, на которых тоже было написано «ТЮЗ». Когда потух свет и началось представление, выяснилось, что впереди видно все и ничья голова перед тобой не торчит, как это бывало в кино.
Театр удивил и покорил Леву. Шел «Том Сойер». Лева отлично знал эту книгу. Но тут все были живые — и Том, и Гек, и индеец Джо. Они ходили совсем рядом, плыли по реке, дрожали от страха на кладбище. Индеец Джо прыгал из окна судебного зала.
Когда кончился спектакль, не хотелось уходить. Лева бы, наверное, мог сидеть в театре до утра и все смотреть и смотреть…
С того вечера он зачастил на Моховую. Лева с трудом выпрашивал у матери деньги и бежал покупать билет. Он пересмотрел там все спектакли. Иные видел не один раз, и с закрытыми глазами узнавал по голосу полюбившихся актеров. Среди них самым любимым у Левы был Самарин. В «Разбойниках» Шиллера Самарин играл злодея Франца. Ребята ненавидели его, хотели поймать на улице и избить. Но Лева понимал, что Самарин только очень хороший артист и потому такой настоящий Франц. Он играл и другие роли — добрых, хороших людей, и тогда его любили все.
Потом Леву самого избрали делегатом ТЮЗа. Он был счастлив. Теперь он сам, с повязкой на рукаве, стоял внизу, охраняя декорации от стремительно носящихся в антрактах малышей. В дни дежурств Лева приходил пораньше, с интересом вглядывался в лица актеров, которые перед спектаклем иногда пили чай в буфете.
Там он познакомился и подружился с Самариным. Любимый артист однажды сам подозвал Леву к столику, велел сесть и выпить стакан чаю с пирожным. Лева хотел отказаться, но Самарин даже прикрикнул на него, а потом улыбнулся. Не веря такому счастью, Лева сидел и пил чай с самим Самариным.
Позже Лева побывал у него дома. Самарин привел его туда после утренника. Он жил в четвертом этаже, на углу Фонтанки и Невского. Из окон квартиры был виден Невский проспект, Дворец пионеров, сад и даже купол Исаакиевского собора. Не то что из комнаты, где жил Лева, — только скучная облезлая стена да кусок крыши, на которой примостилось множество радиоантенн. Все стены в комнате Самарина были заставлены полками с книгами. Кажется, книг было больше, чем в школьной библиотеке. Они не помещались на полках, лежали на столе, на стульях и даже на полу. Никогда прежде Лева не поверил бы, что у одного человека может быть столько книг. «Неужели же он их все прочитал?» — подумалось Леве.
Самарин усадил Леву на диван с выгнутой деревянной спинкой и спросил, не будет ли Лева протестовать, если он прочтет ему первое действие пьесы, которую пишет для своего театра. Самарин был не только артистом, он еще сочинял пьесы.
Разве мог Лева протестовать?
Артист читал пьесу, а Лева, притихнув, слушал. Самарин читал так, что, закрыв глаза, можно было себе представить, будто пьеса уже идет в театре. А Самарин то и дело отрывался и спрашивал:
— Ну, интересно? Не скучно?
Когда он кончил, стал расспрашивать Леву, что ему понравилось. И Лева только сказал:
— А что же с ними будет дальше?
И Самарин весь засиял, как будто ему было очень важно Левино мнение:
— Значит, интересно. Спасибо.
С тех пор Лева не раз бывал у Самарина. Тот давал ему книги. Лева оборачивал их в бумагу, прочитывал и быстро возвращал. Всякий раз, бывая в кабинете Самарина, он думал о том, сколько же времени нужно человеку, чтобы прочитать все книги, а ведь выходили всё новые и новые.
В седьмом классе Лева Берман написал такое сочинение о Маяковском, что не только прославился на всю школу, но стал известен и в городском отделе народного образования. О сочинении упоминали на учительской конференции. Старая преподавательница литературы Мария Кондратьевна называла его талантом.
А дома жилось нелегко. Отец часто болел, и мать с трудом сводила концы с концами.
После седьмого класса Лева хотел пойти работать, но родители категорически запротестовали.
— Не для того мы бьемся, чтобы ты вырос неучем, — сказал отец.
— Станешь человеком, и мы тогда отдохнем, — заявляла мать.
И Лева торопился учиться. Учился изо всех сил, ненавидя лодырей и нелюбопытных.
С седьмого класса он полюбил стихи и сочинял их во всякое свободное от занятий и чтения книг время. Потом он написал пьесу для ТЮЗа. Она называлась «Но пасаран!», рассказывала о том, как борются с фашистами и умирают герои испанского народа, и казалась Леве прекрасной.
К тому времени он уже реже ходил в ТЮЗ, но с Самариным дружбы не утратил. Волнуясь, Лева отнес пьесу к нему на квартиру и стал ждать ответа.
Он не сомневался в успехе и уже видел себя в полукруглом зале театра смотрящим свою пьесу. Рядом сидели товарищи по школе, а впереди счастливые мама и отец.
Но получилось не так, как ожидал он.
Самарин сказал, что Лева безусловно способный парень, в свое время, наверное, будет писать пьесы, но в пух и прах разругал «Но пасаран!».
Видя, как обескуражило это юного сочинителя, он все же улыбнулся и сказал:
— Спокойствие, милый друг. Драматургия — самая трудная форма. Знаешь ли ты, сколько плохих пьес написал я?
И Лева легко забыл свою неудачу и снова взялся за стихи. К тому времени их уже стали печатать в «Ленинских искрах», и он стал ходить в литературную группу Дворца пионеров, где считался одним из самых даровитых.
В школе Бермана любили. Он обладал мягким, незлобивым характером. С удовольствием помогал другим писать сочинения, а за тех, кому это не давалось совсем, писал сам.
С девятого класса он был членом комсомольского бюро, а также редактировал школьную газету, которую сам назвал «Мы молоды».
Когда в школе появился Ребриков, он сперва не понравился Леве. «Верхогляд и фасон», — подумал про него Лева. Но очень скоро они, к удивлению других, сдружились. Они часто спорили о той или другой книге или кинокартине, но скоро мирились, причем обыкновенно уступал Берман. Ребриков, конечно, не прочел так много книг, как Лева. Это Берман без труда понял. Но быстрая сообразительность Володьки, способность все схватывать на лету восхищали и покоряли Леву, склонного в каждом человеке находить необыкновенное.
Вскоре он уже глядел влюбленными глазами на Ребрикова и не представлял себе жизни без обаятельного и остроумного Володьки.
Началось долгожданное лето, но погода никак не налаживалась. Всю первую половину июня дул холодный балтийский ветер. Ветер смешивался с мелким дождем. Люди ходили в пальто. Женщины не расставались с зонтами.
Приближался выпускной вечер. Он был назначен на субботу.
Юноши явились на него торжественные, немного взволнованные. На всех были галстуки. Даже те, у кого еще ничего не росло, побрили свои подбородки.
Девушки надели нарядные светлые платья и туфли на высоких каблуках.
По коридорам ходили в обнимку. На лестницах десятиклассники впервые открыто курили. Педагоги проходили мимо, ничего не говорили, только укоризненно покачивали головами.
С нескрываемой завистью смотрели на эти вольности те, кому предстояло провести здесь еще один-два года.
В классе рисования, превращенном в буфет, официально продавали пиво. Сюда то и дело затаскивали кого-нибудь из преподавателей, угощали, поднимали граненые стаканы в знак благодарности и с пожеланиями всего хорошего впереди.
Даже самые заядлые, самые «вредные» учителя в этот вечер были просты и доступны.
Забыли прежние обиды, ссоры…
Художница Ольга Леопольдовна, пожилая, в старомодном чеховском пенсне со шнурком и со старомодной прической, та самая, которую называли «Задумано недурно» и на уроках которой больше всего шумели, сказала Володьке:
— Ну, Ребриков, надеюсь лет через пять читать ваше имя на афишах!
Володька покраснел и ответил:
— Спасибо.
Ему вдруг стало не по себе. Ведь он, пожалуй, хуже всех вел себя на занятиях у этой доброй женщины, доводя ее порой чуть не до слез. Ему даже захотелось извиниться сейчас перед ней, попросить прощения, сказать, что это делалось не со зла. Но это было бы глупо, и он промолчал.
После вручения аттестатов был концерт.
Нина играла «Времена года» Чайковского. Она прощалась со школой, в которой прошло ее детство, и, пожалуй, сегодня играла еще лучше, чем когда-либо.
В зале сидели отцы, матери, старшие братья. Они тоже когда-то учились в школе, некоторые в этой же, и Нина хотела своей игрой напомнить им о тех безвозвратно ушедших счастливых днях.