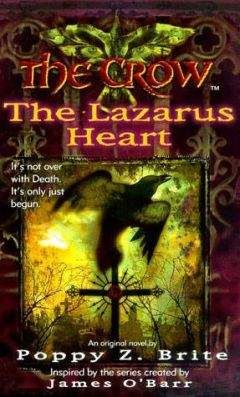Владимир Сорокин - Норма. Тридцатая любовь Марины. Голубое сало. День опричника. Сахарный Кремль
– Приезжай сейчас! Я завтра к Шурэ еду, на полмэсяца! У меня с собой!
– А ты где?
– Мы в «Сафии», тут пьем намного! Приезжай, пасидим!
– В какой «Софии»?
– В рэстаране, в рэстаране «Сафия»! Знаэшь?
– Знаю… – устало выдохнула Марина, свешивая ноги с тахты.
– Падъезжай к васьми, я тебя встрэчу! Я вийду! В вэстибюле! А?
– Да, да… я подъеду. Ладно… – Она положила трубку.
Медный циферблат показывал десять минут восьмого.
С трудом приподнявшись, Марина прошла в совмещенку и, взглянув в зеркало, пожалела, что согласилась куда-то ехать: желтая, опухшая и косматая баба брезгливо посмотрела и прохрипела:
– Свинья…
Ледяная вода слегка взбодрила, расческа привела в порядок волосы, пудра и помада скрыли многое.
Подтерев пахнущую старыми щами лужу и выпив две чашки кофе, Марина оделась и пошла ловить машину.
Добродушный и разговорчивый левак не обманул – без трех восемь синий «Москвич» притормозил у «Софии», из стеклянных дверей выбежал маленький носастый Самсон, открыл дверцу, дохнул коньяком, чесноком и табаком:
– Здравствуй, дарагая! Пашли, пашли…
Марина вылезла, слегка укачанная быстрой ездой, с облегчением вдохнула прохладный бодрящий воздух.
– Пашли, пашли, Маринэ, там Володя с Варданом! Ты с Юлей знакома?
Его смуглая рука крепко держала Марину под локоть.
– Нет, не знакома, – пробормотала она и остановилась у стеклянных дверей. – Знаешь, Самсон, я… я нездорова и посидеть с вами не могу. Тороплюсь я.
– Как? – удивленно заблестели черные глазки.
– Да, да… – как можно серьезней и тверже проговорила она, освобождая руку.
– Больна? – все еще продолжал удивляться Самсон.
– Да.
– Ну как же… ну давай пасидим…
– Нет, я не могу. Деньги у тебя? – спросила Марина, брезгливо вслушиваясь в рев ресторанного оркестра.
– А, да, да, вот, канешно, – засуетился Самсон, и через мгновенье Марина опустила в карман не очень толстую пачку.
– Я пойду, – кивнула она и стала отходить от него.
– Марин, кагда пазванить?
– Никогда, – твердо проговорила Марина и пошла прочь.
– Маринэ! Маринэ! – закричал Самсон, но она, не оборачиваясь, шла в сторону центра.
Только что стемнело.
Зажглись фонари и неоновые слова над магазинами, прохожие обгоняли медленно бредущую Марину. Идти было легко, голова не болела, лишь слегка кружилась. Марина знала улицу Горького наизусть – каждый магазин, каждое кафе были знакомы, с ними что-то было связано.
Это была улица Воспоминаний, улица Ностальгии, улица Беспомощных Слез…
«Тридцать лет без любви, – грустно думала Марина, глядя по сторонам, – тридцать лет… А может, все-таки любила кого-то? Тогда кого? Марию? Нет, это не любовь… Клару? Тоже не то. Нежности, забавы. Вику? Вику… Но она погибла. Да и вряд ли я любила ее. Может, если б не погибла, поругались бы, как всегда бывает… А мужчины. Никто даже не запомнился. Вот Валя один остался, да и что, собственно, этот Валя! Циник и фигляр. Интересно с ним, конечно, но это же даже и не дружба… Да. Странный сон приснился. Жить без любви невозможно, Марина! Приснится же такое… А ведь и вправду я не жила. Так, существовала. Спала с лесбиянками, с мужиками. Грешница, простая грешница. В церкви сто лет не была, хоть сегодня б зайти…»
Прошла Елисеевский, вспомнила Любку, раскисающий тортик, перевязанный бечевкой, бутылку вина, нелепо торчащую из сумочки, июльскую жару…
А вот и дом Славика. Воон его окошко. Света нет. Лет пять назад стучал на ударнике в «Молодежном». Ужасно смахивал на девушку, поэтому и пошла с ним. Знал Окуджаву, Галича, Визбора. Пили однажды у кого-то из них. Марина кому-то из них понравилась, – в коридоре держали ее руку в комнате пели, глядя ей в глаза, изящно покачивая грифом дорогой гитары…Но телефона она не дала, – Славика было жалко, да и лысина отталкивала…
Марина достала сигареты из сумочки, закурила.
«А Сашенька? Вроде сильно влюбилась в нее. Без ума сначала. Да и она тоже. А после? Вышвырнула, как кошку паршивую… Интеллигентный человек, называется… Дура. И за что? Позвонить надо бы, извиниться… Да нет уж, поздно. Да и она не простит. Кошмар какой. Об дверь головой била. Идиотка! А может, позвонить? Нет, бесполезно… Деньги не отдала ей. Стыд какой. Дура. Но вообще-то… что-то в ней неприятное было. Хитренькая она все-таки… себе на уме. Платья дармового захотелось. За сорок рублей и из матерьяла моего. Эгоистка. Только о своем клиторе и думала. А как кончит – и привет, про меня забыла. Тихая сапа. Вина никогда не купит. Все мое дула… Господи, как все гадко! Бабы эти, клитора, тряпье, планчик поганый! Тошно все… тошно… тошно…»
Свернув налево у памятника Долгорукому, она пошла по Советской.
Вон там тогда еще телефонные будки не стояли, а была просторная белая скамейка. Здесь они сидели с Кларой допоздна, тогда, после первой встречи. Какие у нее были роскошные волосы. Белые, льняные, они светились в темноте, тонко пахли…
«Господи, как будто сто лет назад было. Клара, Любочка, Вика… Так вот жизнь и пробегает. А что осталось? Что? Блевотина».
Переулки, переулки…
Столешников. Марина вздохнула, бросила недокуренную сигарету. По этому тесному переулку, мимо переполненных людьми магазинов она шла десять лет назад – ослепительно молодая, в белых махровых брючках, красных туфельках и красной маечке, с заклеенным скотчем пакетом, в коричневых недрах которого покоился новенький том недавно вышедшего «ГУЛАГа».
Она несла его Мите от Копелева, не подозревая, что в двухстах метрах от Столешникова, на улице Горького в доме № 6 спокойно пил свой вечерний чай вприкуску мужественный человек с голубыми глазами и рыжеватой шкиперской бородой…
«Да. Диссида, диссида… Митька, Оскар, Володя Буковский… Будто во сне все было… У Сережки читали. Собирались. Пили, спорили… Господи… А где они все? Никого не осталось. Митька один, как перст. Да и того выпихивают. Да… А странно все-таки: дружила с ними, помогала – и жива, здорова, хожу по Москве. Даже и вызова-то дрянного не было. Ни обысков, ничего. Фантастика…»
На многолюдной Петровке ее задела ярким баулом какая-то цыганка и чуть не сбил с ног вылетевший из подворотни мальчишка.
«Господи, куда они все спешат? Торопятся, бегут. У всех нет времени оглянуться по сторонам, жить сегодняшним днем. А надо жить только им. Не завтрашним и не прошлым. Я вот начинаю жить прошлым… Как дико это. Что ж я – старуха? В тридцать лет? Глупость! Все еще впереди. А может – ничего? Пустота? Так и буду небо коптить? Если так, то лучше, как Анна Каренина… Чушь какая. Нет. Это все за грехи мои. Всю жизнь грешила, а теперь – расплата. Господи, прости меня…»
Кузнецкий вздыбился перед ней, сверкнул облитой неоновым светом брусчаткой.
Она достала сигарету и долго прикуривала начавшими дрожать руками.
Здесь людей было немного меньше, вечернего неба немного больше. Марина посмотрела вверх. Облаков не было, низкие колючие звезды горели ярко и грозно, напоминая о холодном дыхании Вечности. Марина жадно втягивала дым, но он, обычно помогавший успокоиться, на этот раз был бессилен, – пальцы дрожали сильнее, начинало знобить.
Сколько всего случилось в ее жизни на этой горбатой улице!
Сколько раз она проходила здесь – маленькая и взрослая, грустная и веселая, подавленная и счастливая, озабоченная и ветреная, пьяная и трезвая…
Вот по этим камням, по этому потрескавшемуся асфальту бежали ее сандалии, тапочки, танкетки, туфельки, туфли, сапожки…
Она бросила сигарету, зябко поежившись, сжала себя за локти:
– Холодно…
Но холодно было не телу, а душе.
Она свернула. Улица жирного Жданова. Архитектурный слева, а справа разрушенный, как после бомбежки дом. Забор, какие-то леса и мертвые окна.
– Как испоганили центр… – пробормотала она, проходя мимо светящегося газетного киоска.
В этом полуразрушенном доме жили Верка, Николай, Володька. Здесь, на втором этаже она стояла с Марией в полумраке лестничной клетки, слушала ее трезвый взрослый голос. А потом они спускались вниз по гулким ступеням, шли ночным двором, вдыхая теплый, пахнущий еще не остывшим асфальтом воздух…
«Было ли это? – подумала Марина, вглядываясь в черную глазницу Веркиного окна. – Там, наверно, грязь, тьма и мокрая штукатурка. Вот и все…»
Темный нелюдимый Варсонофьевский распахнулся перед ней угрюмым тоннелем.
«Как в «Книге мертвых», – горько усмехнулась Марина, – Черный тоннель. Только белой точки впереди не видно. Нет ее, белой точки…»
Ни одного окна не горело в переулке. Расширяющийся КГБ с постепенной настойчивостью захватывал центр, выселяя людей, снося и перестраивая дома. КГБ. Эти три сплавленные воедино жесткие согласные всегда вызывали у Марины приступ бессильной ярости, гнева, омерзения. Но сейчас ничего не колыхнулось в ее скованной ознобом душе.
– КГБ… – тихо произнесла она, и слово бесследно растаяло в сыром воздухе.
Не все ли равно, кто виноват в смерти переулка – КГБ, всемирный потоп или чума?..