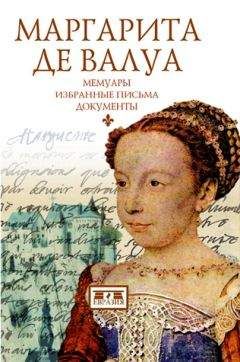Маргарита Шелехова - Последнее лето в национальном парке
Я сразу узнала ее, и совсем неважно, как ее там звали, потому что она и была моей Казимирой, Бабой-Ягой моего Национального парка, и я мечтала именно о ней, и я готова была служить ей верой и правдой как Матери-родине где-нибудь в районной организации — ведь, когда стоишь перед зеркалом, и собеседника не отличить от тебя, то нужно говорить правду, а правда состояла в том, что я была ведьмой районного масштаба — не больше, но и не меньше. И дочь, которую я назову своим именем, и о которой никогда не узнает ее отец, уже была со мной, и наш главный эйдос уже плавал в российских эфирах вольно и соблазнительно, тревожа разноцветные сны скучающих неформалок. Пора было создавать партию зеленых — дел в моем Национальном парке было невпроворот, а без Бабы-Яги никогда ни хрена не получалось.
Я редко виделась со своими летними друзьями, слишком много было всяких забот, да и сезоны упорно не хотели смешиваться, но в последний день октября у Барона намечалось важное событие — открытие небольшой выставки его «нечистой серии». Барон чувствовал себя дважды героем Советского Союза, поскольку тоже получил от Пакавене свою награду — намечались похвальные отзывы в прессе, и Баронесса спела ему на днях перед сном песенку, хотя, на мой вопрос о тексте он так и не ответил. По-видимому, первый текст еще мало подходил для колыбельной.
Когда началась презентация, я уселась за последним экспонатом выставки на стул дежурной по залу и стала разглядывать разношерстную публику. Около меня под стеклом матово желтела луна, сооруженная из бивня мамонта и перечеркнутая стремительным лохматеньким силуэтом из черного коровьего рога. Именно эта скульптурка и красовалась на городских афишах, возвещавших о сроках, местоположении и характере выставки.
Каждый вновь прибывший множил собою персонажей Барона. Увы, они уже давно выпали из сказок и занимались сейчас под разными личинами чем угодно. Старенькие домовые с белыми бородами — всякие там доможилы, хороможители, батанушки, постены и лизуны, служили сторожами там и сям, а домовые помоложе принимали вид своих хозяев и надомничали. Кикиморы пристраивались на ткацких фабриках, в Горгазе и жилищно-эксплуатационных конторах, а кое-кто из них заведовал кружками вязания в Домах пионеров или отделами ниток и мулине в крупных универмагах.
Дворовых тоже было немало — сараяшники заведовали складскими помещениями, конюшники предпочитали, за неимением лошадей, быть парикмахерами, шишиги крутили баранки по дорогам, вздымая пыль столбом у каждой шашлычной, а банщики, в связи с нехваткой рабочих мест в банях, мыли головы своим подчиненным в самых неожиданных местах, включая морги и пожарные инспекции. Полевые шли, в основном, в армию, геологические управления и писательские организации, водяные служили сантехниками, а лешие подвизались по художественной части и ругали Шишкина только для вида — на самом деле, весь модерн, начиная с Сезанна, им был глубоко неприятен (ну его к лешему, — говорили они на своих кухнях).
Русалки были представлены во всех номинациях — от лучших актрис года до секретарш ответственных работников министерств и ведомств, и, неважно, как они там назывались — шутовками, ундинами, лопастами или берегинями, но зрителей у водяниц всегда было предостаточно. Бесы среднего калибра были представлены критиками и журналистами, бесы помельче имели характер разночинный и непредсказуемый, подвизаясь в потребкооперации, сельском хозяйстве и метеорологии и не брезгуя сливаться с массами в заводских проходных, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтах.
Больших скоплений они, впрочем, никогда не образовывали — товар у нас все-таки был штучный, и, кроме того, при виде своих тут же рождались всякие несбыточные мечты о славных былых временах, когда все занимались своим непосредственным делом, и хватало времени на всякие мелкие пакости, без чего и жизнь — не жизнь. Мои самые ходкие коллажи тоже, ведь, проходили по разряду мелких пакостей.
Из крупных бесов явился только один — специалист по ядерной физике, и его складчатые чугунные веки прикрывались огромными темными очками, и все понимали, что в его сторону лучше не смотреть — себе дороже! Это была нежить рангом повыше моего, и он многозначительно молчал, держась особняком от всякой мелкой пакости.
А потом все ударились в просмотр экспонатов, и, когда они отходили от луны с маленькой ведьмой, то натыкались на мой взгляд и застывали на месте, и мы смотрели — я на них, а они на меня, потому что это и было наше первое собрание. Мы должны были узнать друг друга, и я узнавала тех, кто не мог жить среди ржавой листвы, смога и сточных вод, а они должны были узнать, кто именно полетит в последнюю ночь апреля на гору Броккен для представления первой национально-зеленой программы и переговоров с другими конфессиями.
Скромная российская нечисть — они так хотели жить в чистом зеленом мире и быть единственной его нечистью, чтобы все точно знали, кто же виноват, и не искали виноватых там, за морями-океанами, когда из крана вода не льется. А, для того, чтобы мир был чистым, требовались экологические истины и очистные сооружения, а для экологических истин требовался честный парламент, а для очистных сооружений — подъем производства, а там уже пошло и поехало, и, глядишь, рублем за устрицы при случае расплатимся — ну, если в Париж по делу срочно…
Оно, конечно, кое-кому это не сильно не нравилось, и парочка упырей-ушанов с питерских могильников красовалась в зале с самого начала выставки, притворяясь футболистами клуба «Динамо». Но это никого не обманывало — они были в одинаковых костюмах землистого цвета, и, разглядывая экспонаты, стучали на весь зал ржавыми клыками. До меня, впрочем, они так и не дошли, выручила Баронесса. Тетушка Барона — та, что служила за океаном в Толстовском фонде, прислала ей замечательное платьице для коктейлей с открытой спиной, и Баронесса фигурировала в нем перед спортсменами, пока те не узрели шрам на ее шее.
Страшной трансильванской древностью пахло от этого шрама, и они тут же застыли на ковре, жадно принюхиваясь к этому упоительному аромату, как к пороховой гари музейного именного пистолета товарища Дзержинского. У альтернативной тусовки с кровососущими спецами были свои задачи и развлечения, и наши пакости по сравнению с их делами выглядели невинными забавами. Им нужно было вовлечь в свое кровавое действо весь мир, а нам великие потрясения были некстати. Домового задабривают, когда есть чем задабривать, дворового — когда имеются сарай, баня и скотный дворик, а лешего боятся, если других страхов не имеется. Русалки при этом добавляли — к нам ходят, когда есть с чем ходить, и им всегда аплодировали.
Пока мы заседали, Барон носился с бутылками шампанского, и, когда раздался первый выстрел, все закопошились и сгруппировались у большого стола с печеньем и шоколадными конфетами, и счастливый Барон получил в этот вечер столько сладкоречивых конфеток, что ему уже хотелось закусить соленым огурцом.
Впрочем, не обошлось и без ложечки дегтя — публика то была своя, совсем не ангельская, языкатая до язычности, и сам черт ей был милым другом — тот самый, что летал с кузнецом по небу за туфелькой екатерининского фасона.
Я ехала домой, и поезда в метро двигались моей энергией. Спасибо Андрею Константиновичу, мир праху его в моем сердце — сам того не желая, он сказал мне главное, и я теперь знала, кто я, откуда я и куда я иду, и я уже догадывалась, что там могла натворить мать Лаумы, взявшись для начала переустраивать те самые органы местного масштаба, которые так претендовали на интимную близость с ней. Я получила то, что хотела больше всего на свете — хотела тайно, страстно и безнадежно.
Зима в этом году выдалась ранней, и снег валил сегодня с утра, но морозец был совсем небольшой, а когда я вышла на большой белый пустырь, началась настоящая снежная вьюга.
— В такую погоду хороший хозяин и собаку не выгонит, — подумала я уж совсем тривиальное, но это мелькнуло во мне какой-то сумасшедшей радостью в тот самый миг, когда я сорвалась с места и полетела с вьюгой за большие дома в чистое поле, и не было у меня теплой конуры с хозяином, и все, что мне было нужно — было со мной, и я свысока думала о всех мгновеньях в своей жизни, кроме этого, настоящего, когда летела над снежными сугробами, и мелкие бесы местного значения мчались со мной наперегонки, корча рожицы и пуча глазки в картинном испуге, и завывания ветра подхлестывали нас, и я взлетала все выше и выше над своей спящей землей, пока не увидела лес за горизонтом, и мы заворожили с моими маленькими приятелями прямо на снежном лету, чтобы отпугнуть майский град от цветущих яблонь, июльскую засуху от овощных грядок и августовские проливные дожди от тучного зрелого поля.
За зиму я успела купить все необходимое для себя и ребенка, включая большой запас продуктов, детскую кроватку и стиральную машину «Малютка». Чувствовала я себя превосходно, и мои ежемесячные анализы были в полном порядке — Барон прикрепил меня к приличному медицинскому заведению. И вообще тысячи мелочей моей дальнейшей жизни были продуманы, упорядочены и раскрашены в нужный колер, и сама мысль, что они образуют разноцветную блестящую мозаику, приводила их и меня в искреннее восхищение. Немаловажной деталью этой мозаики был предстоящий осенью обмен московской квартиры на питерскую. В конце концов, мои предки жили в Петербурге, что, несомненно, делало честь их вкусу.