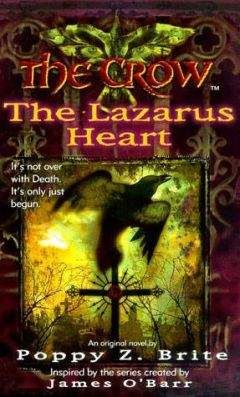Владимир Сорокин - Норма. Тридцатая любовь Марины. Голубое сало. День опричника. Сахарный Кремль
– Иди сюда!
Еле передвигая ноги, председатель прошаркал к нему.
Секретарь в упор посмотрел на него:
– Почему у тебя корм в таком состоянии?
– Тк ведь и не…
– Что – не?
– Не нужон он больше-то – корм…
– Как это – не нужон?
– Тк кормить-то некого…
Кедрин прищурился, словно вспоминая что-то, потом вдруг побледнел, удивлённо подняв брови:
– Постой, постой… Значит, у тебя… Как?! Что – все?! До одного?!
Председатель съёжился, опустил голову:
– Все, товарищ Кедрин.
Секретарь оторопело шагнул к крайней клети. На её дверце красовался корявый, в двух местах потёкший номер: 98.
Кедрин непонимающе посмотрел на него и обернулся к Тищенко:
– Что – все девяносто восемь? Девяносто восемь голов?!
Председатель стоял перед ним – втянув голову в плечи и согнувшись так сильно, словно собирался ткнуться потной лысиной в грязный пол.
– Я тебя спрашиваю, сука! – закричал Кедрин. – Все девяносто восемь?! Да?!
Тищенко выдохнул в складки ватника:
– Все…
Мокин схватил его за шиворот и тряхнул так, что у председателя лязгнули зубы:
– Да что ты мямлишь, гадёныш, говори ясней! Отчего подохли? Когда? Как?
Тищенко вцепился рукой в собственный ворот и забормотал:
– Тк от ящура, все от ящура, мне ветеринар говорил, ящур всех и выкосил, а моей вины-то нет, граждане, товарищи дорогие, – его голос задрожал, срываясь в плачущий фальцет, – я ж ни при чём здесь, я ж всё делал, и корма хорошие, и условия, и ухаживал, и сам на ферму с утра пораньше, за каждым следил, каждого наперечёт знаю, а это… ящур, ящур, не виноват я, не виноват и не…
– Ты нам Лазаря не пой, гнида! – оборвал его Мокин. – «Не виноват»! Ты во всём не виноват! Правление с мастерской сгорели – не виноват! В амбар красного петуха пустили – не виноват! Вышка рухнула – не виноват!
– Враги под носом живут – тоже не виноват, – вставил Кедрин.
– Тк ведь писал я на них в райком-то, писал! – завыл Тищенко.
– Писал ты, а не писал! – рявкнул Мокин, надвигаясь на него. – Писал! А попросту – ссал!! На партию, на органы, на народ! На всех нассал и насрал!
Тищенко закрыл лицо руками и зарыдал в голос. Кедрин вцепился в него, затряс:
– Хватит выть, гад! Хватит! Как отвечать – так в кусты! Москва слезам не верит!
И оглянувшись на крайнюю клеть, снова тряхнул валившегося и воющего председателя:
– Это девяносто восьмая? Да не падай ты, сволочь… А где первая? Где первая? В том конце? В том, говори?!
– В тоооом…
– А ну пошли. Ты божился, что всех наперечёт знаешь, пойдём к первой! Помоги-ка, Петь!
Они вцепились в председателя, потащили по коридору в сырую вонючую тьму. Голова Тищенко пропала в задравшемся ватнике, ноги беспомощно волочились по полу. Мокин сопел, то и дело подталкивая его коленом. Чем дальше продвигались они, тем темнее становилось. Коридор, казалось, суживался, надвигаясь с обеих сторон бурыми дверцами клетей. Под ногами скользило и чмокало.
Когда коридор уперся в глухую дощатую стену, Кедрин с Мокиным остановились, отпустили Тищенко. Тот грохнулся на пол и зашевелился в темноте, силясь подняться. Секретарь приблизился к левой дверце и, разглядев еле различимую горбатую двойку, повернулся к правой:
– Ага. Вот первая.
Он нащупал задвижку, оттянул её и ударом ноги распахнул осевшую дверь. Из открывшегося проема хлынул мутный пыльный свет и вместе с ним такая густая вонь, что секретарь, отпрянув в темноту, стал оттуда разглядывать клеть. Она была маленькой и узкой, почти как дверь. Дощатые, исцарапанные какими-то непонятными знаками стены подпирали низкий потолок, сбитый из разнокалиберных жердей. В торцевой стене было прорезано крохотное окошко, заложенное осколками мутного стекла и затянутое гнутой решёткой. Пол в клети покрывал толстый, утрамбованный слой помёта, смешанного с опилками и соломой. На этой тёмно-коричневой, бугристой, местами подсохшей подстилке лежал скорчившийся голый человек. Он был мёртв. Его худые, перепачканные помётом ноги подтянулись к подбородку, а руки прижались к животу. Лица человека не было видно из-за длинных лохматых волос, забитых опилками и комьями помёта. Рой проворных весенних мух висел над его худым, позеленевшим телом.
– Тааак, – протянул Кедрин, брезгливо раздувая ноздри, – первый…
– Первый. – Набычась, Мокин смотрел из-за плеча секретаря. – Вишь, скорёжило как его. Довёл, гнида… Ишь худой-то какой.
Кедрин что-то пробормотал и стукнул кулаком по откинутой двери:
– А ну-ка иди сюда!
Мокин отстранился, пропуская Тищенко. Кедрин схватил председателя за плечо и втолкнул в клеть:
– А ну-ка, родословную! Живо!
Тищенко втянул голову в плечи и, косясь на труп, забормотал:
– Ростовцев Николай Львович, тридцать семь лет, сын нераскаявшегося вредителя, внук эмигранта, правнук уездного врача, да врача… поступил два года назад из Малоярославского госплемзавода.
– Родственники! – Кедрин снова треснул по двери.
– Сестра – Ростовцева Ирина Львовна использована в качестве живого удобрения при посадке парка Славы в городе Горьком.
– Братья!
– Тк нет братьев.
Тааак. – Секретарь, оттопырив губу, сосредоточенно пробарабанил костяшками по двери и кивнул Тищенко:
– Пошли во вторую.
Клеть № 2 была точь-в-точь как первая. Такие же шершавые, исцарапанные стены, низкий потолок, загаженный пол, мутное зарешеченное окошко. Человек № 2 лежал посередине пола, раскинув посиневшие руки и ноги. Он был также волосат, худ и грязен, остекленевшие глаза смотрели в потолок. Теряющийся в бороде рот был открыт, в нем шумно копошились весенние мухи.
Стоя на пороге, Кедрин долго рассматривал труп, потом окликнул Тищенко:
– Родословная!
– Шварцман Михаил Иосифович, сын пораженца второй степени, внук левого эсера, правнук богатого скорняка. Брат – Борис Иосифович – в шестнадцатой клети. Поступили оба семь месяцев назад из Волоколамского госплемзавода…
Кедрин сухо кивнул головой.
– А что это они у тебя грязные такие? – спросил Мокин, протискиваясь между секретарём и председателем. – Ты что – не мыл их совсем?
– Как же, – спохватился Тищенко, – как же не мыл-то, каждое воскресенье, всё по инструкции, из шланга поливали регулярно. А грязные – тк это ж потому, что подохли в позапрошлую пятницу, тк и мыть-то рожна какого, вот и грязные…
Мокин оттолкнул его плечом и повернулся к Кедрину:
– Во, Михалыч, сволочь какая! Лишний раз со шлангом пройтись тяжело! «Какого рожна? Зачем мне? Для чего? А сколько мне заплатят?» – Он плаксиво скривил губы, передразнивая Тищенко.
– Тк ведь…
– Заткнись, гад! – Мокин угрожающе сжал кулак. Председатель попятился в темноту.
– Ты член партии, сволочь? А? Говори, член?!
– Тк а как же, тк член, конечно…
– Был членом, – жестко проговорил Кедрин, захлопнул дверь и подошел к следующей.
– Третья.
Скорчившийся человек № 3 лежал, отвернувшись к стене. На его жёлто-зеленой спине отчетливо проступали острые, готовые прорвать кожу лопатки, рёбра и искривлённый позвоночник.
Две испачканные кровью крысы выбрались из сплетений его окостеневших, поджатых к животу рук и не торопясь скрылись в дырявом углу. Нагнув голову, Кедрин шагнул в клеть, подошёл к трупу и перевернул его сапогом. Труп – твёрдый и негнущийся – тяжело перевалился, выпустив из-под себя чёрный рой мух. Лицо мертвеца было страшно обезображено крысами. В разъеденном животе поблескивали сиреневые кишки.Кедрин сплюнул и посмотрел на Тищенко:
– А это кто?
– Микешин Анатолий Семёнович, сорок один год, сын пораженца, внук надкулачника, правнук сапожника, прибыл четыре… нет, вру, пять. Пять лет назад. Сестры – Антонина Семеновна и Наталья Семеновна содержатся в Усть-Каменогорском нархозе…
– Они-то, небось, действительно содержатся. Не то что у тебя, – зло пробурчал Мокин, разглядывая изуродованный труп. – Ишь крыс развёл. Обожрали всё ещё живого, небось…
Кедрин вздохнул, вышел из клети, кивнул Мокину:
– Петь, открой четвертую.
Мокин отодвинул задвижку, распахнул неистово заскрипевшую дверь:
– Во бля, как недорезанная…
Четвёртый затворник сидел в правом углу, возле окошка, раскинув ноги, оперевшись кудлатой головой о доски. Его узкое лицо с открытыми глазами казалось живым и полным смысла, но зелёные пятна тления на груди и чудовищно вздувшийся, не вяжушийся с его худобой живот свидетельствовали о смерти.
Секретарь осторожно вошёл, присел на корточки и всмотрелся в него. Судя по длинным ногам, мускулистым рукам и широкой груди, он был, вероятно, высоким и сильным человеком. В его лице было что-то заячье – то ли от жидкой, кишащей мухами бороды, то ли от приплюснутого носа. Высокий, с залысинами лоб был бел. Глаза, глубоко сидящие в сине-зелёных глазницах, смотрели неподвижно и внимательно. Кисть левой руки мертвеца была перебинтована тряпкой.
Тищенко просунул голову в дверь и забормотал: