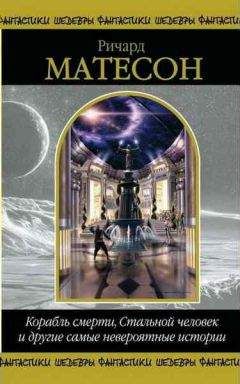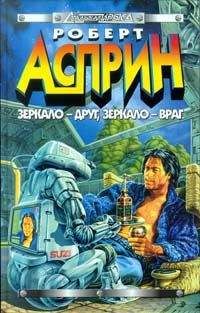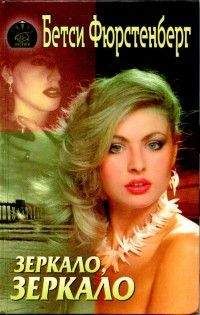Герард Реве - По дороге к концу
Комнаты эти полны Ужаса и Опасности, но самое страшное — это входить и выходить. (Хотя как-то раз, много лет тому назад, когда я вместе с *** остановился в отеле в Тулоне нам дали ключ от комнаты, более того, даже ключ от входной двери отеля, и нам не приходилось уведомлять, пришли мы или вышли, так что однажды с центральной площади мы притащили с собой Солдата, который при ярком освещении оказался гораздо менее привлекательным, в грязно-сером белье и с блеклой, как у ощипанной курицы, кожей и который хуже, чем мы, говорил по-французски; в сношении с ним, из-за повышенного уровня алкоголя в крови, ни одному из нас не удалось дойти до полного насыщения, но именно я, зажмурившись, обнюхивая и ощупывая подушечками пальцев солдатскую фуражку, на несколько секунд смог-таки приблизиться к концу. Но это редкие исключения из правил, отели из снов, которые при последующем посещении города, хоть адрес был тщательно записан, невозможно найти и существование которых, даже сама возможность их существования, упрямо отрицается всеми, кого ни спросишь.)
Поэтому все четыре дня, проведенные в Лиссабоне, я пытался, насколько это было возможно, совмещать необходимые закупки с туристической жаждой прогулок по городу и проходить по вестибюлю приходилось не больше двух-трех раз в день; но, когда я проскальзывал в комнату, мне было трудно избежать тупого просиживания в ней, при котором обычно возникает чувство, что ты слишком устал, слишком немощен или слишком вспотел, чтобы пересилить самого себя и расстегнуть брюки, так что остается только сидеть и глядеть на чудаковатую театральную мебель, которую «в обычной жизни» вы нигде не найдете и по стилю которой довольно сложно, на первый взгляд, определить (Все в Одном, III), находитесь ли вы в Париже, Лиссабоне, Севилье или Хэрроу и Вилстоуне: кровать, увенчанная медными шарами, вызывающая страх умереть в одиночестве; тумбочка с мраморной столешницей и апельсиновыми шкурками в ящике; раздвижной столик, слишком низкий, для того, чтобы за ним писать, а для всего прочего совершенно бесполезный, к тому же шатается, потому что одна из ножек зависает в нескольких сантиметрах от пола, из-за чего таинство наполнения первого бокала красного вина заканчивается здоровенным пятном на одежде; секретер, который не похож ни на обычный, ни на письменный стол, за которым также невозможно писать; двухдверный подвесной шкаф с зеркалами, которые, порождая депрессию, приводят к чрезмерному мастурбированию; две лампочки, одна над кроватью, а другая на потолке, иногда еще третья над раковиной, но редко случается, что все три в состоянии гореть одновременно, причем все вместе они не дают и 75 ватт; и, наконец, уже упомянутая ранее тюлевая гардина: сквозь нее, в любом городе земного шара, в комнату падает тот же просеянный свет, под лучами которого должны бы мучиться Связанные Мальчики, коих здесь, конечно же, нет, уж точно не в третьеразрядном отеле, так что приходится, сидя на краю кровати и подвывая, пытаться контролировать страхи, в то время как в коридоре по плиточному полу шаркает Гостиничное Существо — не человек и не животное, но нечто, способное смеяться, и ненадолго останавливается с другой стороны двери, которая, как вспоминаешь вдруг — и сердце почти перестает биться от страха, — не заперта. Бог мне свидетель, я далек от желания вас опечалить (будто в мире и так недостаточно горя), и не верьте, пожалуйста, всем этим россказням, что я негативно отношусь к жизни и тому подобное, как говорит, например, «Сенатор» (белый пепел) Алгра, потому что я живу для других, и это факт, и «сокровищница моей души» обогащает народ и тем самым — конечно, опосредованно — все человечество. Красота есть на свете — я буду последним, кто станет это отрицать. Так, вчера я получил письмо от Молодого Человека Р. (чье прежнее удобное прозвище мы больше не употребляем, и теперь я могу описать его лишь с помощью следующих слов: «молодой нидерландец Р. индонезийского происхождения»), который, будучи мной приглашен, жил в этом отеле с середины до конца июня; в письме он сообщает, что смертельно больная обезьянка Н. получил Премию Ван дер Хоогта,[192] кроме того, видимо, в качестве венца его славы, делегирован на Writers Conference в Эдинбург. Вот такие вещи идут мне на пользу и являются гораздо более приятными новостями, чем все эти сообщения в газетах об убийствах и изнасилованиях. Я очень рад за Н., в основном, из-за этой премии, а если теперь еще остались у кого-то сомнения в том, что он самый великий живущий нидерландский писатель, то я вообще отказываюсь во что-либо верить, и жизнь потеряет для меня всяческий смысл. На эти деньги он сможет, наверное, снять квартиру побольше, так что его жене теперь не придется пересиживать в кухне творческий процесс. Да и в Эдинбург съездить тоже хорошо, ему не мешает проветриться, хоть на мой взгляд это и странно — посылать на конгресс в Великобританию человека, не говорящего по-английски. Но там можно и на французском говорить, несмотря на то, что ни одна душа тебя не станет слушать, за исключением пары выскочек в зале, которые, кажется, шиллингов за шесть могут взять напрокат наушники с антенной и переводчиком в придачу; так, не надо брюзжать, вы чертовски хорошо понимаете, что я хочу сказать. И если руководителем будет снова чокнутый Джон Кэлдер,[193] то вам во всяком случае нет нужды читать газетные статьи: в моем «Письме из Эдинбурга» прошлого года вы найдете правдивое отображение событий на Конференции 1962-го года. (Воспоминания, кажется, 29-летней давности, с Острова Тексель,[194] о помешанном, который запихивал в рот бумагу и жевал, а также о тамошнем старике, продавце «погодных деревьев»: «Вы все время спрашиваете, какая будет погода — ну, почему бы вам не купить „погодное дерево“, ребята, тогда вы всегда будете знать, какую погоду ждать…»[195] Мужик этот теперь уже, наверное, умер, ну, какой смысл об этом говорить. «У людей наоборот: из бабочки гусеница».[196] О, Человек! Не забывай, Что смертен ты и недалече рай. А жизнь твоя — всего Обман, Преходящий, зыбкий туман, Иль жаждущий солнца Росток, Но сорван цветок, Иль что Трава — Вчера еще жива, А днесь в хлеву сохранена.[197]) Хочется надраться: я уже немного принял на грудь, кстати.
Вечер субботы, 27 июля. Вчера поздним вечером в своей комнате я пил за здравие многих, но и, стыдно даже признаться, за смерть некоторых. Парочка из них ускользнула до следующего раза, потому что ЪА литра коньяка в итоге кончились и было уже за три часа ночи, даже для Испании слишком поздно, чтобы купить что-либо. Довольно приятный на вкус коньяк, хотя обезьянка Н. заорал бы благим матом, лишь понюхав его, и отпускал бы задушевные замечания об этом «отвратительном авиационном топливе» и так далее. В любом случае, я нашел его удивительно крепким и пахучим, даже почти сухим, а больше всего мне в этом коньяке понравилось то, что он стоил гульден восемьдесят за литр. Но все как с тем табаком Халявщика[198] из Фрисландии: я больше не могу найти магазин спиртных напитков, о котором помню лишь, что нежненький и очень красивый солдатик пил там из зеленой поллитровки белое вино, закусывая сладким горохом, а перед дверью стоял автобус; этих примет, разумеется, недостаточно. («Может быть, вы сможете мне помочь, я забыл адрес, но там был очень красивый солдат и автобус перед дверью. Нет, солдат сидел внутри. Ах, ну, вы наверняка знаете» и так далее.) Дальше все шло как обычно: раздумывать, мямлить, ругаться, говорить все громче, ходить туда-сюда, страдать головокружением и тошнотой, вопреки всем здравым рассуждениям нагреть воду на Тайной Электроплитке (которая не такая уж тайная, им здесь все равно, по-моему), сделать и выпить растворимого кофе, от которого становится еще более мерзко, лечь на кровать, что-то вроде солнечного удара, принять гранулу активированного угля и в порыве проницательности принять решение выйти на улицу, быстро, «на Божий свет». Так что, дрожа и потея, как выдра, хотя, удивительно, пока не теряя себя, потому что еще хватало ума сдерживать естественные порывы и не пукать (не упускайте из вида), и даже в последний момент отказаться от мысли вылететь через окно, я, напевая вполголоса, спустился вниз для того, чтобы совершить то, на что я раньше не осмеливался: вывести ночного портье, и здесь, как во всем мире, представляющего собой завербованного ночным легионом политического подпольщика с мертвыми глазами и в рубашке с короткими рукавами (Все в Одном, IV), из его сна, деформирующего лоб, потому что головой на секретарском рабочем столе. Оказавшись снаружи, я поспешил к покинутой террасе Кафе «Европа», importe de suconsumicion[199] чтобы, вытащив там из кладового помещения стул, наслаждаться видом залива, смотреть на желтые светящиеся бакены Гибралтарского летного поля, на огоньки на Скалах, на закрывающие вид лампы фабрики льда на набережной, и, наконец, вверх, в непостижимое пространство, жутковатое, как и в Нидерландах, но гораздо светлее, и так далее, и тому подобное, — и больше не надо слов, потому что люди пристающие к ближним с Переживаниями По Поводу Природы по меньшей мере так же ужасны, как и бойкий сорт человечков, которые вам всегда с готовностью подробно расскажут, как развивается действие какого-нибудь фильма. Люди должны быть ближе друг к другу, жить в городских районах по-деревенски, сдержанно, не вздыхая по роскоши, вот, видите, основное направление навеянных мне Чувств в процессе созерцания Ночного Моря, к ним добавилось еще соображение, что, как бы ни был силен Сатана, когда-нибудь он подчинится Богу, примирится с Ним и будет служить Ему из собственного, свободного желания и одной лишь любви; а также, что все на свете когда-нибудь примирятся друг с другом и даже, может быть, отпустят мне грехи. (Агнец Божий, засвидетельствуй себя.) Склоненная голова, слезы и высматривание какого-нибудь животного вокруг, чтобы чмокнуть его в башку, желание, которое тут же наполнило меня отвращением, потому что я, несмотря на ранний час, опять вспомнил один пассажу Генри Миллера, в котором описывается, как он в саду, под воздействием наслаждения от многочисленных стаканов, Бог его знает, какой именно совиной мочи, позволив французскому книгопродавцу заморочить себе голову рассказами о французской культуре, по-моему, уже в другом саду, целует во влажные губы обветренную каменную Нимфочку. (Мне так и не удается выбрать, какой именно пассаж я считаю более мерзким: этот или тот, в котором он сообщает, что совершил вместе с женой путешествие по Франции на велосипеде.) До поцелуев в башку так и не дошло, потому что в этой стране стоит только взглянуть на кота или собаку, как они тут же убегают, будто ты уже направил на них ружье: уроки жизни им не прошли даром. (Животные в Испании, Или Чего Не Сообщает Ни Один Путеводитель: Еще Более Ужасная Сторона Испанской Трагедии, записанная в Этих Землях Ученым Иностранцем, который Вынужденно при всем присутствовал.) Я решил, что пора вернуться в отель и попытаться уснуть.