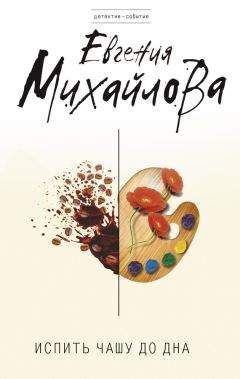Сергей Герман - Фраер
Он только что вернулся из отпуска и сейчас с грустью думал о том, что сука — жизнь опять заставляет его с самого раннего утра разбирать косяки мелкоуголовной швали.
Бабкин смотрит на меня с нескрываемой грустью.
— Гражданин майор…
— Молчать!
Встревает Лаптев.
— Он вообще отпетый, товарищ майор!
— Не понял, — вздрагивает Бабкин.
— Вчера ночью через решку кричал. — Поясняет прапорщик.
Заместитель начальника колонии терпеть не может алкоголика Лаптева. Он морщится.
— Ладно, ладно. Иди! Мы тут сами разберёмся.
Когда Лаптев выходит, Бабкин осуждающе качает головой.
— Нашёл время по шизнякам сидеть, на воле дел невпроворот. Ладно, рассказывай, что случилось?
Я рассказал вкратце.
Александр Иваныч чертыхнулся.
— Блять, а без мордобоя было нельзя? Или ты все вопросы решаешь как тогда в кабаке?
Бабкин натянул фуражку на лоб, толкнул уже дверь, чтобы выйти, но снова остановился и сказал:
— Ладно, Бог не фраер. Разберёмся.
На следующее утро Бабкин пришёл снова.
— Допросил я твоего, Гену. Дал полный расклад. Даже бить не пришлось. Прямо не Гена, а Мата Хари. Выполнял поручение завхоза седьмого, дружбана твоего заклятого, Гири. Рассчитывали, что тебя снимут. А на твоё место поставят Гиляревского.
Ладно, из ШИЗО пока не выпущу. А то побежишь счёты сводить, дуэлянт херов!
* * *Пока я парился на киче, освободился Асредин. Видно кто — то крепко хлопотал за него на воле.
Асредину пересмотрели приговор. Сбросили полтора года. Рано утром вызвали на вахту с вещами. Он ушёл и больше не вернулся. На следующий день подъехал к зоне на чёрной «Волге», в строгом костюме с галстуком. Что-то кричал, передавал приветы.
Говорят, что за рулём машины была какая то женщина. Крыса освободилась вместе с ним.
Больше я их никогда не видел.
* * *В начале мая, через неделю после моего выхода из ШИЗО, в лагерь приехал суд: судья, прокурор, двое народных заседателей со скучающими равнодушными лицами.
Пели птицы. Ласково светило весеннее солнце.
Я всё — таки вышел условно — досрочно. Ошалевший от свободы, весны. Пьяный от счастья.
Всю последнюю ночь перед освобождением я пролежал с открытыми глазами, без сна. О том, что впереди, я не думал. Это было непостижимо. Четыре лагерных года стояли предо мной, и я вновь переживал каждый день, каждую минуту своего заключения.
Как новые впечатления мне нужно было пережить, чтобы никогда больше не видеть и не вспоминать лагерь? Как вырвать из сердца память о том, что я видел своими глазами?
Прощание было недолгим. Провожая меня Женька сказал:
— Завидую тебе… Весна! На воле из под юбок робко пробиваются голые коленки… Иди уже, ладно. Оставляй меня одного в этом жестоком мире! Надеюсь, пришлёшь хоть пачушку сигарет, как разбогатеешь!
За спиной захлопнулась железная дверь.
Тот, кто не сидел в тюрьме, никогда не поймёт человека, не сидевшего. Тот, за кем не захлопывались, выпуская на волю, тюремные двери, никогда не поймет красоты этого звука.
Кто на себе этого не испытал — не поймет.
За забором я провел четыре года одиннадцать месяцев и пять дней. И вот вышел на свободу.
Меня опять никто не встречал. Виталик не приехал.
Долгими и однообразными лагерными вечерами мы вместе мечтали о свободе, строили планы и клялись на «бля буду»!.. А вышли за ворота и за спиной остался только лязг железной двери.
Видимо, нашу дружбу крепила лишь бесконечная лагерная тоска.
В спецчасти худая прапорщица с желтыми кудряшками из-под зелёной пилотки сонно моргая выдала справку об освобождении. В бухгалтерии насчитали какие-то деньги. В зоне на них можно было купить тольку бутылку водки.
Это было все, что я нажил за тридцать три года. Возраст Христа. Время собирать камни.
Кассирша профессионально пересчитала тоненькую пачечку денег.
— Я предпочитаю крупные купюры. — Сказал я.
— Крупных нет — автоматически, откликнулась она.
Затем добавила, слегка повысив голос:
— Если вам что-то не нравится, обратитесь с заявлением. Его рассмотрят. Вам дадут ответ.
— Впервые за последние почти пять лет мне сказали — вы.
— А как скоро рассмотрят?
— Как положено, в течение десяти дней.
— Мне всё нравится — сказал я. — И вы в том числе.
После лагеря мне действительно нравилось всё.
Кассирша дёрнула выщипанными бровями.
— Ну, так берите деньги и идите! И не морочьте мне голову!
Я сгреб податливые мятые бумажки. Сунул их в карман.
— Зря вы так. — Сказал я напоследок. — Грубо! Между прочим, я не женат. Вполне мог бы составить вам счастье.
Я думал, что последнее слово останется за мной. Ошибся.
— Ты на себя в зеркало посмотри! — Услышал я в след. — На тебе же клейма негде ставить. Жених!
Боясь, что закручусь в суете и забуду о данном Женьке обещании, я тут же, в ближайшем киоске купил три блока сигарет и занёс их на хоздвор.
Юра Чиж, на автопогрузчике грузил картошку для зоны.
— Передай Женьке. — Сказал я. — Прощай Чижик!
Я шел по улице, раскаленной майским солнцем. Меня обгоняли дребезжащие трамваи. Навстречу мне шли женщины в коротких юбках и не было сил оторвать от них глаз. Шагали мужчины и их никто не сопровождал. Люди разговаривали, улыбались, смеялись и никому из них не было до меня никакого дела.
Я поднял глаза. Передо мной был дом, в котором жила мать Владика.
Это была стандартная кирпичная пятиэтажка. В загаженном подъезде стандартно пахло кошками.
Дверь мне открыла ещё не старая, в недалеком прошлом красивая женщина. За плечами болтался светлый хвостик волос.
«Где то её уже видел?»
Сказал:
— Вам письмо от Влада — протянул ей записку.
Она заметно удивилась. Брови ее непроизвольно поползли вверх. Выдерживая паузу долго читала записку.
Потом отстранилась, давая мне войти. Я присел на диван. Она ушла на кухню. Спросила:
— Кофе?
— Да.
Она принесла начатую бутылку водки.
Сказала просто:
— Помянем. Сегодня сорок дней.
* * *На следующий день я поехал на рынок. Виталик не глядел мне в глаза. Он печально смотрел куда-то в сторону, как-то сжавшись. Зато я внимательно смотрел на друга. Спросил:
— Ну и чего не встретил?
Он отвёл глаза.
— Забухал я. Прости.
Протянул мне тощую пачечку денег.
— Возьми. Это моя сегодняшняя выручка.
Я взял деньги и положив их в карман пошел к двери. Мы не разговаривали год. Потом от него пришло письмо. Он спрашивал, как я?
Увиделись мы с ним лет через пять. Виталик остался в России. Я уже давно живу в Лондоне. Стал толстый, добропорядочный и очень сентиментальный. Но всё равно, когда моя жена сердится на внука, она ворчит:
— У-уу, уркаган! Вылитый дед!
Женька освободился, вскоре залетел во второй раз. Потом в третий.
Начал пить. После инсульта у него отнялась одна сторона тела.
Глупость и детская дурь сделали его судьбу необратимой. Первая судимость и тюрьма определили всю дальнейшую жизнь. Как говорил старый и мудрый Колесо, он оказался в колее, из которой уже невозможно выскочить.
Сказочное чувство хмельного состояния от свободы у меня уже давно прошло. Забылись безумная тоска и страх, ледяные изоляторы, боль избитого в кровь тела, вкус пайки — тюхи, куском замазки, проваливающейся в тоскующие кишки…
И помнится теперь другое… Дружба, мечты, сострадание. Одна сигарета на четверых. Последний кусок хлеба, замутка чая на всех.
По вечерам я люблю сидеть у горящего камина и смотреть на огонь. Он, так — же как и моя жизнь самым непостижимым образом меняет свой цвет — становится красным, оранжевым, жёлтым, потом чёрным и наконец превращается в золу, в пепел. Мне не нужно делать усилия над собой, чтобы восстановить цепь событий. Моё прошлое всегда со мной.
Мы изредка созваниваемся с Виталиком. Общаемся. Он и я стали старше. Мы почти забыли блатную феню. Говорим в основном о детях, погоде и о болезнях. Что впереди? Будущее покажет.
Мой «воронок» покатил дальше. Все — в прошлом…
Но хоть и прошло со дня моего освобождения уже более двадцати лет, иногда мне снится один и тот же сон. Он очень яркий, как коралловый риф. Все мои чувства и ощущения в нём, остры и оголены до предела. Мне снится, что я бегу прямо на колючую проволоку и рву её руками. На колючке остаются капли моей крови и клочья окровавленного мяса.
Я просыпаюсь от собственного крика, весь в липком и холодном поту. Страх, что я снова там и облегчение от того, что это только сон. И так каждый раз. Один и тот же сон. И в нём я снова становлюсь тем, кем был.
Семь лет назад я вышел из тюрьмы.
А мне побеги,
Всё побеги снятся…
Мне шорохи мерещатся из тьмы.
Вокруг сугробы синие искрятся.
Весь лагерь спит,
Уставший от забот,
В скупом тепле
Глухих барачных секций.
Но вот ударил с вышки пулемет.
Прожектор больно полоснул по сердцу.
Вот я по полю снежному бегу.
Я задыхаюсь.
Я промок от пота.
Я продираюсь с треском сквозь тайгу,
Проваливаюсь в жадное болото.
Овчарки лают где-то в двух шагах.
Я их клыки оскаленные вижу.
Я до ареста так любил собак.
И как теперь собак я ненавижу!..
Я посыпаю табаком следы.
Я по ручью иду,
Чтоб сбить погоню.
Она все ближе, ближе.
Сквозь кусты
Я различаю красные погоны.
Вот закружились снежные холмы…
Вот я упал.
И не могу подняться.
…Семь лет назад я вышел из тюрьмы.
А мне побеги,
Всё побеги снятся…
Послесловие