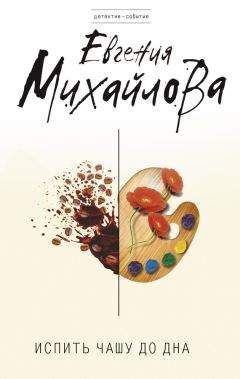Сергей Герман - Фраер
Женькин праздник был испорчен. Он наверняка считал себя идиотом.
* * *Зэк, чтобы выжить должен обладать чутьём как у зверя. Я видел, что отрядник старается зайти к нам ближе к обеду. Бережливый Женька ворчал:
— У нас самих из жиров осталась одна соль! Ему что, жена денег на обед не даёт?
Капитан Плетнёв мечтал о подполковничьей должности начальника отдела воспитательной работы. Переживал. Терзался. Плохо спал. Намекал мне на скорые перемены в своей судьбе.
С учётом перспективы и будущей карьеры, для отрядника всегда был припасён стакан чая и бутерброд с колбасой. В крайнем случае тарелка с жареной картошкой. Благо, что картошку с луком расконвойники нам завозили с хоздвора мешками.
Копчёную колбасу заносили со свиданок и берегли для отрядника. Не отказывался он и от шоколадки или конфеты. Прятал в карман шинели. Говорил:
— Это для лапочки — дочки.
Я его не осуждал. Ребёнок, это святое.
Эта поганая дипломатия была мне не по душе. Но любой мент, в том числе и отрядник может шмонать тебя по десять раз на дню. Наш не сворачивал нам кровь мелкими придирками, не выворачивал тумбочки.
При плановом шмоне я встречал ментов у входа. Пока забивал им баки разговорами, Женька варил чай и резал колбасу на бутерброды. Посидев с полчаса, менты уходили с чувством выполненного долга. Обыск произвели. Замечаний нет. С пользой для организмов провели время. В тепле. За приятной беседой.
Мужикам в отряде нравилось отсутствие потрясений и вид прочно стоящих, не перевёрнутых тумбочек. Вспоминали, что при Коле Однокрылом всё было иначе. Гораздо хуже.
* * *Через несколько дней зашёл Алик. Пряча глаза попросил у Женьки в долг пачку сигарет с фильтром. Женька заинтересовался. Зачем? Тебоев не курил. Алик краснея и смущаясь пояснил, что устал бороться со сперматоксикозом, решил сходить к проституткам.
Само собой, что за неимением женщин их функции выполняли бывшие мужики.
Женька сигареты дал, но предупредил Алика, что «дескать продажная любовь не приносит настоящей радости».
Продолжение этой истории я услышал на следующий день.
Алик переговорил с главпетухом отряда. Тот привёл двух путан местного разлива. Небритых. Лет тридцати. Один с усами, похожий не на шлюху, а на дворника. Другой хоть и выбритый, но от него несло вонючим мужским потом.
Алик разнервничался. Обматерил сутенёршу и несостоявшихся путан на чеченском «Хьай шийла дакъ деста хьа»! И ушёл.
— Вот дурак, Алик! — Сказал Женька. — Сходил бы к Сидору. Тот хоть в туза не балуется, но зато, как сосёт! — сказал он, важно выставив палец…
* * *Тридцать первое декабря.
Ещё одна новогодняя ночь в зоне. Назвать её праздничной не поворачивается язык.
За окном поверх забора тянулись заиндевевшие мотки колючей проволоки. За ними — холодная замёрзшая страна. В небе постоянно что-то свистело, взрывалось и рассыпалось брызгами новогоднего фейерверка.
Где-то в вышине мелькнули огни ночного самолета, несущегося во мраке свободных граждан самой свободной страны.
У нас уже все подметено, все съедено. Новый год встречали без ёлки и шампанского. Водки не было тоже. Зато был лосьон «Лесной».
Он был абсолютно не хуже палёной водки. Его нужно было только правильно закусывать. Сахаром. Тогда он не просился обратно. Зато изо рта приятно пахло сибирской тайгой.
Давно я не был так пьян. Лосьон накрыл меня и прихлопнул. Потолок качался перед моими глазами.
Когда то я думал, что никогда не привыкну к этим стенам и воздуху, металлическим зубам и синим рукам, к шрамам на головах. Несчастье здешних обитателей помножено на горе и несчастье тех, кого они сделали несчастными. Здесь находится кладбище пороков, страданий, подлости и грязи. Здесь настигает разочарование и осознание бессмысленности бытия.
Последняя мысль перед тем, как провалиться в беспамятство. — «Надо поговорить с отрядником, чтобы отправил на УДО Виталика».
Утром Женька заметил: «Ты так матерился во сне! Прямо через слово, да зло так…»
И я подумал, значит тюрьма достала и меня. Злоба была внутри. Безотчетная, недоступная к ощущению. Но была.
Надо с ней расставаться, иначе беда!
* * *После нового года — десять выходных. Страна выходит из запоя. Офицеры и контролёры ходят хмурые, опухшие.
Юра Дулинский зашёл в комнату ДПНК. Дежурил майор Алексеев. Все звали его просто Алексеичем. В комнате дежурного пахло перегаром и крепким табачным дымом.
Алексеич рассказывал сержантам историю о том, о том, как в Новогоднюю ночь чуть не убили Васю Мента. Он с женой встречал Новый год в кафе «Росинка». Вышел на улицу перекурить и проболтался, что служит в зоне. Его начали бить. Вася успел добежать до машины и уехать. Жена осталась, так и не заметив исчезновения мужа. Домой вернулась только под утро. Назвала мужа — козлом и завалилась спать.
Дуля пересказал эту историю нам.
Пока мы смеялись его взгляд остановился на Колобке.
— А ты чего здесь, Миха? Тебя там спецчасть ищет. Говорят с Новым годом поздравить хотят. Тебе год добавили, надо расписаться!
Помертвевший Колобок помчался в штаб. На входе дежурный прапорщик небрежно обхлопал его карманы.
Колобок стоял перед ним, привычно выпятив грудь и растопырив руки, в торжественно-идиотской позе.
Личный шмон, повторявшийся несколько раз на дню, давно уже превратился в пустую формальность. Колобка тревожила другая мысль.
Сколько добавили?
— На вашу помиловку пришел ответ, — сказала начальница спецчасти, выдерживая паузу, — Скоро поедете на посёлок.
Съязвила. — Поднимать сельское хозяйство. Теперь я буду спокойна за продовольственную программу.
Глаза у Колобка стали какими-то отсутствующими, словно он смотрел в себя.
Нашёл в себе силы, чтобы что-то пролепетать.
Начальница взяла со стола белый лист с круглой печатью:
— Прочтите и распишитесь.
У Колобка расплывались буквы, дрожали руки. Он еле нашёл строки: «…заменить неотбытый срок наказания колонией — поселением». Ниже стояла круглая гербовая печать и подпись.
Колобок вернулся потрясённый. Долго не мог говорить.
Я подначивал.
— Мишаня, скоро значит по водочке загуляешь?
Колобок блаженно щурился.
— Да-ааа!
— Смотри, не убей опять кого, по пьяни!
Через две недели Колобок ушёл этапом в Архангельскую область. Перед тем как проститься, долго тряс мою руку, говорил:
— Лёха, ты человек! Человечище! Освободишься, приезжай в Москву. Сделаю для тебя, всё, что смогу.
Я пришёл в барак. Достал из тумбочки черновик жалобы.
Перечитал. Задумался.
«Боже мой! Какой бред я написал на четырёх тетрадных листках! Такое можно было написать только по обкурке. Наверное только в таком же состоянии это можно было читать. А может быть в этой президентской комиссии по помилованию никто ничего и не читает»?
Как говорили на Древнем Востоке: «Слабосильны верблюды моих недоумений!
Больше Колобка я так и не встретил. Через три года после освобождения, во время застолья его зарезала ножом сожительница.
* * *И опять наступила весна. На крышах бараков таяли сосульки. Медленно тянулись дни.
В зоне выходной. В клубе готовились к концерту музыканты. Через открытую форточку доносился свежий зоновский шлягер.
Снег, не тая, блестит на тулупах солдатских,
Вышки тихо скрипят на промозглом ветру
А татарин Хасан не устанет болтаться
От стены до стены, ляжет только к утру
На реке Колыме задержались морозы,
На реке Колыме — вечный голод и тиф
На реке Колыме мрут от туберкулёза,
На реке Колыме человек ещё жив
Я сижу за столом с толстой рваной книгой. Некоторые страницы из неё вырваны. Это раздражает. Теряется последовательность. Заходит Виталик.
Два дня назад он прошёл комиссию. Через две — три недели будет дома. Я захлопываю книгу, убираю её под подушку. Есть ощущение, что Виталик зашёл неспроста. Так и есть. В рукаве у него папироса.
— Пойдём на воздух! — Мотает он мне головой.
— А Женька? — Спрашиваю я.
— Я ему оставил. Он ночью сам на сам уделается.
Мы сидим у стены барака. Через решётку локалки вся зона видна, как ладони. Если кто-то из наряда пойдёт в нашу сторону, мы увидим.
На нами повис сладковатый запах конопли.
Виталик задерживает дым в лёгких, потом медленно выпускает из вытянутых губ белое облако. Его уже поволокло на рассуждения.
— Смотри Лёха, в природе ведь тоже, как у людей. Апрель — сука, пришёл как хозяин! Всё тут по его. Жарко! Тает. И никуда его не подвинешь, своё возьмёт!
Голуби это черти шкварные, жрут на помойках, всего боятся. Воробьи шпана. Камазовский котяра — шпанюк!