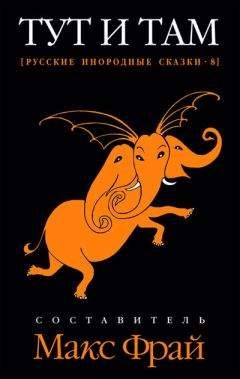Алексей Синиярв - Бляж
— С днем рождения.
— Присоединяюсь. Поздравляю. Желаю.
— А Рая где?
— Она на хозяйстве. И не надо.
— Нехорошо как-то. Наготовила вон всего. Вкуснятины.
— Да она и сама не больно-то хотела, — махнул рукой Маныч и сморщил нос. — Стесняется.
— По-второй. Не задерживай добрых и честных людей.
— Как вы говорите, нужен тост, — сказал Рисовальник. — У меня тост такой. Чтоб не быть тем, кем захотят другие.
— Ёмко.
— Мне думается у Артура с этим всё на 36 и 6. Это я вообще, — сказал Рисовальник.
— В целом, да? Как тезис?
Сдвинули стаканы.
— А где Минька наш?
— К морю пошел. На обрыве посидеть. Депрессия у него.
— Депрешен?
— Деприссон де фуа.
— Надо позвать.
— Я схожу, — сказала Бацилла.
— Слушай, а где сигареты?
— А я забыл!
— Сказали же! Ну что за люди.
— Куротники вы!
— Забыл? Ты смотри, с этим будет всё хуже и хуже.
— На-ка. Перчиком закуси. В перце морфин — сразу будешь спокойный, как Стендаль.
— Артур, давно хотел спросить. А как тебя в музыку, да и в Москву, впрочем, как занесло?
Маныч уже свою дозу для рассказов принял. Еще с утра.
— А хотелось. В Москву, в Москву хотелось, как сестричкам из классики. А что? К большим огням. К фонтанам. К свершениям поехал. У нас фонтан в городе, как засох так и до сих пор и … А я фонтаны люблю. Нравится мне фонтаны.
— Родственники были? Знакомые?
— Да никого.
— Так смело?
— Лез напролом. Везде отчигнули. А кто нас когда к пирогам ждет? Без репетиторов, от сохи и одеждой на вырост? Там своих хватает. Но, слава Справедливости, все-таки существует что-то для равновесия. Негромкого такого. Есть, однако, вариант проходной пешки. Хотя б в слоны.
— Ты рассказывый. Не стесняйся. Мы поймем.
— Мы понятливые.
— В Москве есть губернский песталогический. Областной пед. Хоть пед да мед, как в народе бают, хуже нет, но — дорогая моя столица, золотая моя Москва. И кстати. Какой народ по коридорам ходил! Сливки взбитые! Все, кто не ко двору — там! Какие разговоры просвещенные, какие сотрясения воздуха! К тому ж по времени… Будто курочка ряба золотое яичко снесла. Буквально ж, обрушилось. И музыка, и литература, и остальные розы-мимозы. Всё с большой заглавной буквы. Хэм, Фолкнер, Камю, Кафка, Сэллинджер, Пруст. Дозы, конечно, гомеопатические, но и этого хватало, чтобы постоянно будто датым ходить. Да и то, что и говорить, если Мандельштама с Цветаевой видели только на восковке. «Иностранная литература» — сокровищем было бесценным. Тебя с ним на клочки разорвут — дай! Вот одна сторона. С другой — вельветовые мокасины, ресторан «Будапешт», и пиджак с ватными плечами, и носки в клеточку. Пиджака у меня не было, чего зря врать, а вот носки были, потому как брат у итальянских моряков в Новороссийске их чемоданами на шинковку скупал. Мокасины я самолично в ГУМе купил, шесть часов в очереди. Считай, дико повезло. Не совсем с дикого Запада, но для нас и Румыния почти Филадельфия… Потом. Бац! модернисты, тут и авангард — Пикассо, Дали — репродукции в музее выставили, очереди, как за хлебом в блокаду — этого же никто не видел. И наши пидорасы и говна собачьи тоже давай тараканов в краску макать и на холсте пасти.
— А музыка-то?
— А музыка… Что музыка? Тоже, можно сказать, рухнула кирпичиком на головку. Одно дело с «костей», другое — по «голосам» вылавливал, можно сказать, почти фантастические для тебя вещи, а тут перед тобой появляется. Живое. Как мамонт. Который вымирать и не думал. В мыслях не держал. Он еще не начинал, он только дудку к губам подносит, а у тебя мурашки по спине и в горле кадык дыбом встает. Пример — штука заразительная. Все идет через пример. Время пройдет об этом книги напишут. Придут наши в Берлин. А я до этого на роялях как-то… Баловался, скажем. А дудка сильно манила. Это сейчас, пожалуй, и не понять, когда из половицы гитары выпиливают. Эка дескать, что за невидаль? И вот случайность, а, по мне, промысел божий: шарился в клубе нашем, и за сценой, за декорациями нашел останки духового оркестрика, утки в дудки, тараканы в барабаны. А среди прочего медного — футлярчик драненькой. Расстегнул, себе не веря, но сердечко колотилось, врать не буду, и бэм-с! — дудка! Как сезам отворись. Еще довоенная, немецкая. Как попала туда? Какой любитель трофеев в сорок пятом завез?
— Ты его, конечно, зажилил?
— Мне же нужней. Все равно не продали бы. Да и списано все было давным-давно. Ладно. Чего там. Вспоминать. И радости и нерадости, всё было. Всего хватило. Город-герой Москва. И — пускай звучит мотив на ай лав ю. Я вам уже рассказывал. Давайте-ка, за мои именины.
— Давайте-ка, верно.
— Говори Москва, разговаривай, расея!
— Главное, запомнить, где капканы.
А тут и Минька с Бациллой подошли.
— А джаз? — спросил Минька.
— А что джаз? «Плесень! Джазоубежище!» Которые лабухи и лес валить поехали. Опасная была занятия. Нота влево, нота право — в лагеря! Не хочу об этом. Наплескай по баклажкам. Давайте просто так. Без тоста. Каждый за свое[24].
Маныч выпил и лег на мотоциклетную попону, заложив руки за голову.
— Небо-небо-небо-небо…
— А ведь это все пройдет, — сказал Маныч, лежа. — И много лет пройдет, и нас не станет, а здесь кто-то будет также лежать. И до нас ему не будет никакого дела. И небо будет такое же. И море. А нас не будет.
— Грустно?
— 25 тысяч дней всего.
— Всего? — спросил Лелик. — Быть не может, что так мало.
— Всего. А ты как хотел? Торопиться надо.
— Или не торопясь, но и не откладывая, — сказал Рисовальник. — Каждый день.
— Так хотелось бы пожить-то, — сказал Седой. — Как там дальше будет? Любопытно.
— Да никак, — сказал Минька. — Только хуже.
— Это почему?
— По всему видно, — сказал Минька.
— У меня другое мнение, — степенно сказал Рисовальник. — Что ты вкладываешь — то и получаешь, то и переживаешь, что сам вложил. Поэтому надо вкладывать только хорошее. Твоё же к тебе самому и вернется.
— Куда «вкладываешь»?
— В природу, в мир.
— Природа — это загадка.
— Ну, почему? По мне: нет в ней никакой загадки, — сказал Рисовальник. — И не было. Она для того, чтобы человек считал, что у ней есть загадка и пытался ее разгадать.
— А чудеса разные?
— Да нет никаких чудес. Кто их видел? Боцман, Иван Митрофаныч, ты чудеса видел?
— Не знаю. Не приходилось, — ответил Седой.
— Чудеса встречаются постоянно, на каждом шагу, — снисходительно сказал Маныч, — но мы же хотим все по полочкам разложить, проанализировать. На небо посмотри, на море — не чудо? А сколько нелогичного, ненужного? Стрекоза вот. Её никто не ест. Она никого не ест. Летает себе, нарушая все законы термодинамики. Абсолютно бесполезная скотина. Но — красиво.
— Значит чудес нет? — спросила Бацилла. — Скучно.
— Все объяснимо, — сказал Минька. — Если не сейчас, так через сто лет. Все весьма логично. И математично. И стрекоза с стрекозлом логичны. Господь Бог не фокусник, чтобы зайцев за уши из цилиндра вытаскивать.
— А ты дай нам потрогать, как Фоме. Мы агностики. И те кто в церковь ходит — тоже. Только притворяются.
— Для чего у мышки хвостик? Я не знаю, я агностик.
— Да нет, ну что ты, какие мы в жопу агностики? — сказал Лелик. — Когда страшно крестишься? Крестишься. «Господи», «господи», приговариваешь? Еще как.
— Наносное, — сказал Маныч. — Мы, по сути, язычники. «Пока гром не грянет…» То есть один из богов для нас по-прежнему — Гром. Вытравливай не вытравливай. Солнышко — вот наш Бог. Ярило. И очень даже разумно и обоснованно. Потому как землица наша скудна. Человеку, на таких безумных просторах, Бог — только Природа. А как иначе? Никак иначе. Солнца, дождя в своё время: вот и не умрем, вот и поживем. Солнышко, к тому же, красивое, теплое и доброе. Жизненный Бог. Невыдуманный. С ним о смерти дум не возникает. Наоборот. Оно не пугает, по утрам будит. А крестили Русь, слово-то какое нехорошее — «крест», — смертью, и осталось чернота эта в душе, в подсознании. Так под теми вековечными страхами запуганные и ходим: что-то темно-непонятное, крест опять же, смерть с косой, жуть. И боимся вечно чего-то. А с семнадцатого годочка большевики почали колокола сшибать — и народ весь легонько с опиумом завязал. Так легонько, что странно даже. Кинули большевики в народ: давайте строить царство на земле! Гениальная в своей простоте идея. Строй здесь. Сейчас. Сегодня. И не что-нибудь — Царство для себя! Ну и что, что абстрактная идея? А религия не абстрактна? Лозунг-то архизамечательный. Зачем потом ждать, если потом ничего нет? Так что, правильно — агностики. Всё принимаем, перевариваем и космополитически осуждаем. Верю я, верю. Верую, как у Шукшина. В паровоз. В самолет. В то, что руками могу потрогать. А в справедливость относительную… Когда-нибудь, где-нибудь… Нет, не верю. Ты, спорщик чертов, веришь?